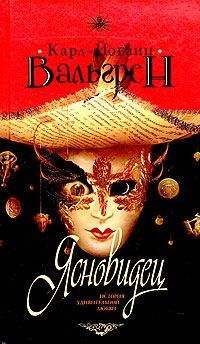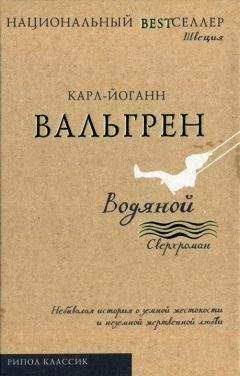– Наверное, в ваше время не так легко было еврею служить в полиции.
– Нелегко… я бы даже сказал, очень нелегко. Антисемитизм был пещерный. Скрытый, конечно, но иногда и не очень… Что, дескать, еврею делать в полиции, шел бы в банк… Считалось так – обрезанный, значит, богатый и скупой. Бывало и похуже…
Она опять вспомнила Катца. Все насмешки и оскорбления, которые ему приходилось сносить. Еврейчонок, жидовская морда… И омерзительные анекдоты. От одного ее до сих пор передергивает: «Сколько жидов можно уместить в „фольксвагене“? Ответ: шесть миллионов. Двое впереди, двое сзади, остальные в пепельнице»… И бедняге Данни приходилось все это терпеть. Впрочем, он и не терпел – взрывался мгновенно, а тем ублюдкам только того и надо было, хотя он мог быть опасен.
– Думаю, я единственный кошерный стокгольмский полицейский в моем поколении. А может, и сейчас. И уж точно единственный полицейский в этом доме. Между прочим, это желание отца. Сам он был страховым агентом, но почему-то посчитал, что самое время кому-то из родни надеть полицейскую форму, и я…
Он замолчал и прислушался. Откуда-то донесся крик, даже не крик, а нарастающий жалобный плач, громкие всхлипы. Крик оборвался так же внезапно, как и возник.
– Мириам Левенштайн, – тихо сказал полицейский комиссар на пенсии. – Пятнадцать лет ей было, приехала в Швецию с «белыми автобусами». Чудом пережила Аушвиц – Биркенау. Видела, как ее мама и младшие сестры шли в газовую камеру. Человека невозможно вылечить от воспоминаний, особенно от таких.
Он печально и чуть виновато улыбнулся и стряхнул с колен крошки печенья.
– Но вы же не за этим приехали. Хотите узнать побольше о самоубийстве четы Клингберг?
Один из парамедиков, приехавших в то утро по вызову в сёрмландскую виллу Клингбергов, оказался хорошим знакомым Рагнара Хирша. Фамилия его была Хольмстрём, раньше он работал в Стокгольме пожарным. Он позвонил Хиршу через неделю и попросил повнимательнее рассмотреть эту трагическую историю.
Служанка, объяснил он, хотела что-то ему рассказать, но, когда приехала полиция, вдруг раздумала.
Дальше Хирш рассказал, как начал копать в материалах дела, – отчасти из чистого любопытства, признался он с улыбкой. Все-таки речь шла о шведских индустриальных магнатах первого ряда. Попросил Хольмстрёма подробно описать, что тот видел на вилле. Связался с сёрмландской полицией, запросил материалы дела, протокол вскрытия. Судебные медики считали, что супруги находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, и тому были доказательства: в машине нашли две пустые коньячные бутылки и недопитую бутылку «Шато Лафит».
Но Хольмстрём, старый лис, немало повидавший на своем веку – все-таки много лет проработал в службе спасения, – придерживался другого мнения. Он считал, что это не алкоголь, а какие-то наркотические препараты. Анализ на содержание алкоголя в крови по непонятным причинам не сделали.
– Собственно, это еще ни о чем не говорит, – сказал Хирш и подлил Эве кофе. – Может и то и другое. Известно, что супруги Клингберг злоупотребляли спиртным и успокаивающими таблетками.
– Откуда это известно?
– Кое-что слышал… Говорили, началось все после жуткой истории с похищением их старшего сына. Им так и не удалось преодолеть потрясение. Начали пить, с каждым годом все больше и больше.
– Но ведь Хольмстрём не это имел в виду?
– Нет… ему показалось, что позы погибших, когда их нашли, неестественны. Как будто речь идет об инсценировке. И он подумал, что их вполне могли перенести в машину в бессознательном состоянии. То есть конечно уверенности у него не было, но мысль такая промелькнула.
– Но ведь ничто на это не указывало?
– Никто не знает. Полицейские сразу приняли версию самоубийства и натоптали там… как слоны в посудной лавке. Если даже и были какие-то зацепки, они их благополучно уничтожили.
Хирш продолжал рассказ. Он ездил на виллу в Юрхольмене, где жили Клингберги, потом пробовал поговорить с родственниками. Все уже вернулись в Стокгольм – и Понтус Клингберг с тогдашней женой, и патриарх Густав, и служанка, та самая, что хотела рассказать что-то Хольмстрёму, и Джоель Клингберг.
– На мальчика было больно смотреть… тринадцать лет, и никакие деньги в мире не могли его утешить. Подумайте сами: потерять сразу обоих родителей, да еще при таких жутких обстоятельствах… он был совершенно убит горем. Я пару раз попробовал спросить его, что он видел в то утро, но куда там… сразу срывался в плач.
Помолчали. Хирш посмотрел в небольшое окно на флигель во дворе. Внезапно исчезли сомнения, что ему и в самом деле девяносто – он как-то сразу устал и постарел, видно было, что старику нелегко копаться в памяти.
– И вот еще что… эти засосы на шее. И у того и у другого. Почему никто не попытался их как-то объяснить?
– Я тел не видел, – пожал плечами Хирш. – Только фотографии, и в протоколе вскрытия, и те, что сделали патрульные. Согласен с вами – откуда эти странные синяки?
– Значит, у вас были сомнения? Подозревали преступление?
– Не исключено.
– Но вам не позволили продолжать?
Он медленно наклонил голову.
– Начальство решило, что мои таланты нужны в другом месте. И потом… материала, чтобы оправдать продолжение расследования, было и в самом деле с гулькин нос. Никаких прямых доказательств. К тому же мнение Густава Клингберга весило немало – у него были знакомые и в полицейском начальстве, и выше, в правительстве. Он был совершенно сломлен. Сначала теряет внука, потом младшего сына с женой. Он не хотел ни журналистских, ни полицейских расследований. Решил, что достаточно. Его можно понять – старался защитить внука, Джоеля. Тот был на волос от психического срыва, и Густав…
Хирш запнулся, но, посомневавшись, продолжил:
– У Густава были странные фантазии – якобы над его родней тяготеет проклятие. Сын с женой, внук девять лет назад… И он считал, что лучше всего помалкивать, охранять семейную жизнь от посторонних глаз и ушей. Не искушать судьбу.
– А вы так и не узнали, что хотела рассказать Хольмстрёму служанка?
– Так и не узнал… Знаете, как говорят на идиш, – он произнес короткую фразу на непонятном, но каком-то веселом и забавном языке. – История без конца, как обед без сладкого. Эта заноза сидела довольно долго – что же она хотела рассказать?
– А сами вы с ней не говорили?
– Говорил.
– И?
– И ничего. Разве что… про суеверия Густава насчет проклятия, лежащего на его семье. Это я от нее узнал. Он даже свои носовые кровотечения списывал на проклятие. Мне было ясно – что-то она скрывает, но едва я чуть поднажал, вообще замолчала. Ни слова.
– А как ее звали, вы, случайно не помните?
– Почему же не помню. Помню. Сандра Дальстрём. Тогда еще совсем молодая женщина. После смерти родителей Джоеля воспитывала именно она.
Он проводил ее до вестибюля с аквариумом с цихлидами. Людей заметно прибавилось, приближалось время ланча. Старики в кипах, многих катили в креслах-каталках, ярко одетые старушки несколько экзотического вида. Странная смесь языков – польского, идиш, шведского, английского. Почему-то им всем было весело.
У дверей толпились посетители, многие пришли с детьми – навестить бабушек и дедушек. Один из молодых пап чем-то напомнил ей Катца.
Она села в машину и повернула ключ зажигания.
О Данни ни слуху ни духу, но пока его не нашли. Пока на свободе. Она не могла сдержать восхищения.
Но кто-то ему помогает. Может быть, Йорма?
Посмотрела «желтые страницы» в Интернете – есть такой. Йорма Хедлунд. Живет в Мидсоммаркрансене. Два года назад вышел на свободу. Срок отбывал в тюрьме в Норртелье. Три года за соучастие в вооруженном грабеже.
Она выключила мотор, достала мобильник и позвонила Марианн Линдблум, следователю отдела экономических преступлений, и попросила заглянуть в досье Йормы и узнать, ведется ли за ним текущее наблюдение – и повесила трубку, воздержавшись от ответа на вопрос, когда она вернется на работу.