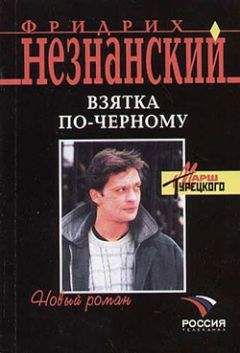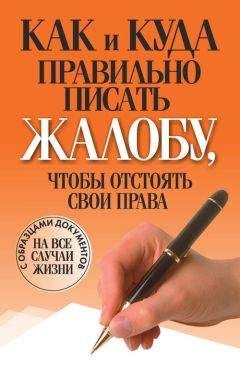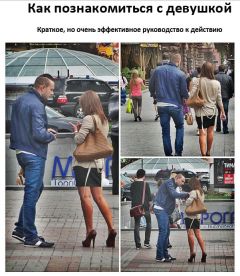Ознакомительная версия.
Внезапно она услышала тихий разговор двух женщин. Вера подошла к оконцу, осторожно выглянула. Около соседней хаты стояли две женщины. Одна, высокая, нескладная, тихо плакала и жаловалась второй. на кого? Да на председателя! На всесильного Мирослава
Ивановича. Вера тихонько приоткрыла створку окна. Теперь она слышала каждое слово.
— Не убивайся ты так, Пелагеюшка, — жалостливо говорила та, что пониже ростом.
— Как не убиваться, Васена? — всхлипнула Пела-гея. — Беда в том, что председатель совсем людям голову задурил! Таисию сахаром да мукой подкармливает. Она у него чуть не с руки ест. а то, что он убийцу ее дочери покрывает — этого она и знать не хочет.
— Да с чего ж ты так уверена, что Анджей убийца?
— Так тятенька мне сами сказывали. Я ж к нему прошлой ночью пробралась. Охранники-то оба пьяные мертвым сном спали. Я ему поесть принесла. Там в углу амбара подкоп сделан, еще раньше. Тятенька нашел. Вот я ему хлебушка передала да молока. Этот-то ирод ни куска не дал. Пусть, мол, с голоду старик помирает.
— Ты спасибо скажи, однако, что он тятеньку твоего от толпы отбил. А то порвали бы в клочья!
— Это-то так. Да видно, у него свой расчет какой-то есть. Я уж тятеньку упрашивала бежать, уж как упрашивала! Там такой лаз — запросто пролезть можно. Даже смешно, что председатель не знает. Да он ни в какую: мол, коли сбегу, то все будут думать, что я злодей. И вам здесь житья не будет. Так и сказал. Уж я плакала, а он ни в какую.
— А что про Анджея-то? — с жадным любопытством спросила Васена.
— А Анджей, когда толпа разошлась, зашел в амбар, сел этак напротив тятеньки и говорит: «Что, мол, старый? Все шпионил за мной? И что у тебя вышло? Я и Марью убил и над Оксанкой потешился всласть. А прикончат за это тебя, дурака. Нечего было в чужие дела лезть!» — Так и сказал, мне тятя слово в слово передал. Еще всякие подробности пакостные рассказывал и ржал, кобели-на.
— Гос-споди, страсти какие. И ведь будет среди нас ходить, изверг! Может, завтра новую девку себе приглядит, упырь. А мы тут без защиты.
— А дети? Я, вон, за Олесю свою теперь пуще всего боюсь. Как ей по селу ходить? Каждый слово обидное сказать может, а Анджей этот… он ведь и дите не пощадит. Эх, надо бы в город ехать, там правду искать, да Олесю не оставишь.
— Слышь, Пелагея, они все вроде сами нынче ночью в город подадутся. Лошадей, я видела, овсом кормили, бричку перезапрягали. И бугай какой-то, бандит натуральный, к вечеру с гор прискакал, что-то передал ему, Мирославу-то… А бабу с молодым парнем видела? Видать, с города пришли. А баба в мужицком платье! Так он сначала с ней толковал, потом с парнем погутарил, да и в тюрьму его, к деду твоему. А баба вообще не пойми куда делась!
— Охти тошненько. — вздохнула Пелагея.
Вера, как будто ее в спину что толкнуло, выскочила на крыльцо. Бабы, увидав ее, истошно завизжали и бросились было в рассыпную.
— Стойте, бабоньки, стойте милые! — чуть не плача, крикнула Вера.
— Марья, что ли? Привидение, что ли? — стуча зубами, проговорила Пелагея.
— Да нет же, не Марья я. Это вы обо мне сейчас говорили. Это я из города пришла!
— Перекрестись!
— Вот вам истинный крест! — Вера широко перекрестилась.
Бабы осторожно подошли.
— Точно, в штанах мужицких. Ты кто такая?
— Вита меня зовут, да вы меня не знаете, — представилась она городским своим именем. — А пришла я к Мирославу Иванычу за защитой. Друг мой в беду попал, тоже напраслину на него возвели. Я его из тюрьмы вызволила, сюда привела, думала защиту найду, а Мирослав Иваныч его в амбар под замок! Из одной тюрьмы да другую, — всхлипнула Вера.
— Ишь ты… То-то ты в мужицком платье. Из самой львовской тюрьмы, говоришь, выкрала?
— Да, оттуда, — кивнула Вера.
— И не забоялась?
— Нет.
— Так как же ты? А охрана?
— Ну, одного подкупила. Отдала все свои кольца, серьги, все что было.
— И не жалко?
— Нет, люблю я его, — просто ответила она. — А за любовь все отдашь.
— Ишь ты.
Женщинам явно понравилась и история про любовь, и то, что городская фифа так просто с ними говорила, поделилась горем своим.
— Так я гляжу, бабоньки, у вас тут тоже беда? — осторожно спросила Вера.
— Да вот, отца Пелагеи погубить хотят. Наговорили. будто он убивец: Марью убил. Ты как раз в хате Марьи, покойницы, сидишь, знаешь? Нет? Ну, это ничего. И Ок-санку, совсем девчонку тоже, мол, дед Шмаков убил. Снасильничал и убил. Ей шестнадцать, а ему уж. Бог весть сколько. И поверили люди! — жарко говорила Ва-сена, которая давеча вместе с толпой требовала зарубить несчастного Шмакова.
— Нужно в город идти за правдой! — твердо сказала Вера.
— Зачем идти-то? Чать, лошадь есть! — заявила Пела-гея.
— Ну, значит, ехать. Еще и лучше — быстрее будет!
— Так кому ехать-то? И куда?
— Отцу вашему. Пусть прямо в НКВД едет, я адрес скажу, пусть все там расскажет, как есть.
— Так он так и собирался сделать, — завыла Пела-гея. — И что вышло? Под замком сидит. Не сегодня-завтра на куски порвут!
— Так потому ему и нужно за правдой ехать! Это здесь ваш Мирослав Иваныч царь и бог, а в городе он кто? Да его, может, самого разыскивают? Уж Анджея точно ищут! Я его портрет в милиции видела!
Если Вера и лгала, то чуть-чуть, чтобы не посвящать женщин в сложные перипетии своей и чужих судеб. Женщины слушали внимательно, и она поддала жару:
— А если мы, Пелагея, отца вашего выпустим? Мирослав Иваныч уедет ночью, так ведь? И Анджей тоже?
— И тот, что с гор приехал, он тоже с ними собирался! — вставила Васена.
— Ну вот! Считайте, что никого не останется!
— Дак он же двоих мужиков охранять деда поставил!
— Так они же пьяные, вы сами говорили!
— Ну… проснутся. Самогон не сон-трава, поди!
— А если им чего подсыпать? Траву эту сонную в самогон? Неужто бабам с мужиками хитростью да умом не справиться?
— Ох, девонька, страшно. — призналась Пелагея.
— А отца на растерзание отдавать не страшно? Вот что, проводите меня до амбара, я с ними сама поговорю.
— Тихо, бабы, слышите, отъезжают? — прошептала Васена.
В ночной тишине были слышно тихое ржание лошадей, скрип колес, чьи-то приглушенные голоса.
ЯНВАРЬ 1946, МюнхенЛюбимый мой! Я пишу в пустоту. То есть, изо всех сил надеюсь, что ты жив, что мы встретимся, ведь я разыщу тебя, разыщу непременно. А пока мне остается лишь надеяться, надеяться, и стараться не плакать. Мои слезы его просто бесят. Я пишу письмо в никуда и никуда его не отправлю, но с кем же могу я поговорить? Перебрать, как четки, эти безумные дни и месяцы?
Не знаю, помнишь ли ты, как тебя убили. Тебя убили, ты падал на меня с залитым кровью лицом. Я и сама плохо помню, как мы оказались в повозке, и сумасшедшую гонку по дороге в горы тоже почти не помню. Только одна картина стоит перед глазами — я держу на коленях твою окровавленную голову и пытаюсь закрыть рану и не могу найти ее — все залито кровью. Потом, я помню, мы оказались в горах, в укрытии, где, к счастью, было все необходимое: запас пищи и, главное, медикаментов.
Я вздохнула с облегчением, но оказалось, что самое трудное впереди. Он хотел убить тебя снова. Застрелить, как недобитое животное. И начался наш поединок, наша война на двоих. Он требовал твоей смерти, он говорил, что ты и так почти труп, что мы не сможем выбраться с тяжелораненым на руках, что я предала его, что следовало бы убить и меня.
У меня было одно оружие: я соглашалась. Сказала: убей нас обоих, но без него я отсюда не выйду. Я говорила: однажды ты убил мою любовь и моего ребенка, и я не позволю тебе сделать это еще раз. Наверное, в моих словах была сила, потому что он замолчал и перестал размахивать револьвером. И, наверное, тогда он любил меня гораздо сильнее, чем я думала.
И еще я молилась. Я так молилась эти дни и ночи. Понимала, что не достойна милости, что много на моей совести зла, но молилась, молилась, молилась.
Я просила оставить тебе жизнь любой ценой. В горячечной этой молитве я предлагала жертву: отними его у меня, Господи, я недостойна счастья, но сохрани ему жизнь!
А ты лежал абсолютно беспомощный и бредил по-немецки. Ты звал мать, просил дать тебе теплого молока. Откуда мне было взять молоко?
Он надеялся, что ты умрешь, но ты не умирал. Я пообещала ему свою жизнь в обмен на твою. Одной мне было не под силу спасти тебя, любимый.
Через неделю, когда стих гул самолетов, которые кружили над нами все эти дни, когда военным надоело прочесывать горные склоны, когда все стихло, мы начали пробираться в Румынию. Мы несли тебя на плащ-палатке, ты был ужасно, невыносимо тяжелым. Ты перестал бредить, ты лежал без сознания, лишь слабое тепло твоей руки не давало мне впасть в отчаяние. В одном из гуцульских селений мы раздобыли лошадь и проводника и пробрались в Яссы.
Ознакомительная версия.