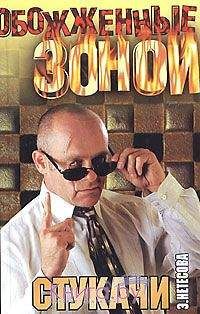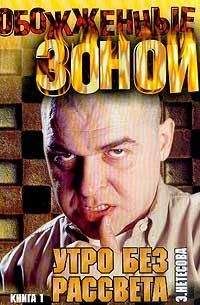— Нас не вышвырнули, чтоб кипежа не было. Все видят, живы мы покуда. А попади в карьер — накроемся за милую душу.
— Да вон и сегодня пятерых вышвырнули. Скопытились на глазах…
— Ужинать, мужики, ужинать! — приоткрыл дверь охранник. Люди серой вереницей поползли в столовую. Виктор Ананьев пошел сзади. И все удивлялся, что охрана не сопровождает зэков, не кричит на них.
В столовой порадовал порядок. Столы чистые. У каждого свой стул. Ни крика, ни споров нет. Зэки не носят еду сами. Ее расставила на столах обслуга. Хлеб не пайками, а лежит в мисках, бери и ешь, сколько хочешь. И еда — не баланда вонючая, а настоящий борщ с мясом. На второе — пшенка с котлетой. Чай крутой, сладкий. Даже не верилось, что это для зэков, и ему — Ананьеву, никто не скажет, что раскатал он губы не на свое.
«Уж не снится ли? — ущипнул себя за руку тракторист. — Но нет, тогда откуда взялись бы лица мужиков за столами, словно украденные из преисподней?»
Виктор оглядывается на мужиков, сидящих рядом. Один, попробовав борщ, отодвинул от себя тарелку. Молча уставился в какую-то точку. Второй — дремал на стуле. На ужин не обращал внимания.
— Ешь, — тронул его Ананьев за руку.
Человек уставился на Виктора непонимающим, тупым взглядом. И долго не мог понять, чего от него хотят. Потом, так и не притронувшись к еде, тихо побрел в барак.
— Ты ешь. Не смотри ни на кого. Лопай. Здесь аппетит — подарок. Его тут быстро теряют. И ты через месяц жрать не станешь. Как все. Карьер отнимет и это. Он за ту жратву дорогую плату берет — целую жизнь, — услышал слабый голос рядом.
— Но кормят отменно, — признал Ананьев.
— Чтоб силы были вкалывать. Иначе некому будет в карьере управляться. Но ненадолго их хватает. Карьер сильней человека. Ты это скоро почувствуешь, — пообещал сосед вяло.
Поужинав, Ананьев вернулся в барак. Люди лежали на шконках. Никто не присел к столу, не ходил по бараку. Не вышел подышать свежим воздухом после ужина.
Люди даже не переговаривались, лежали молча, а может, спали.
— Чудно тебе здесь? — закашлялось сверху. И, немного погодя, желтое лицо, свесившись вниз, заговорило: — Тут даже начальники зоны и охрана каждые три месяца меняются. Полностью. Не выдерживают дольше. И — враз на пенсию.
— А пополненье часто привозят? — поинтересовался Виктор.
— Когда как. Последнее месяц назад было. Они — в другом бараке живут, где весь свежак. Но недолго им петушиться да радоваться, что в рай попали. Вскоре поймут, чего он стоит.
— А почему их отдельно от вас держат?
— Чтоб не деморализовали пополнение. Они ведь с воли. Сильные. Кипишить сумеют. А тебя из зоны, попятно, к нам, — закашлялся мужик.
Рядом послышался вздох. Глубокий, трудный.
— Будь человеком. Позови санитаров, чтоб старика убрали. Помер он…
Виктор выскочил из барака. Позвал охрану, та, поняв все, тихо внесла в барак носилки. Уложила на них сухонькое тело человека. Укрыв его одеялом с головой, молча вынесли из барака.
Ананьев вышел следом.
Охранники, проходя мимо медчасти, выкрикнули номер умершего. И понесли носилки за территорию зоны.
Виктор наблюдал за ними, не шевелясь. Вот они прошли вышку, им открыли ворота. Охранники сдернули одеяло с покойного. Сбросили его с носилок и бегом вернулись в зону.
Вскоре Ананьев перестал сомневаться в услышанном.
Ночью вокруг зоны на все голоса заливались воем волчьи стаи.
— Нешто им уран не опасен, зверюгам этим? Мало того, что живут близ карьера, больных мертвецов жрут. Отчего сами они не дохнут? — спросил кашляющего соседа.
Тот рассмеялся в ответ и сказал:
— Зверь и есть зверь. Ему ничто не страшно. Он — местный. Коренной. Тут рожденный. Крепче урана. Что ему карьер? Он в уране рожден. Потому не боится его. Он сильней любого и крупнее обычного волка чуть не вдвое. И другие звери — тоже. Они, если охрана закопает покойного, за ночь его все равно выроют и сожрут. Хоть ты чем его привали. Сбоку подберутся. И выволокут. Всегда так делают. Потому не хоронят тут. Смысла нет. И сторожей на погосте нашем держать накладно, — зашелся в кашле человек.
— Новенький, как зовут тебя? — услышал сзади тихое. Оглянулся.
Серый, с глубоко запавшими глазами зэк сидел на шконке и звал к себе Виктора.
— Ты не слушай его. А то и вовсе— жить невмоготу станет. И хоть не сбрехал он тебе ни в чем, помни, за грехи свои мы тут мучаемся. За прошлое. И очищаемся. Перед кончиной, чтоб перед Господом чистыми предстать.
— Я уже очистился вовсе. Сраться стал в штаны, как дитя. Не держится ничего. Само выскакивает наружу. Сапоги вон, все носки обоссаны. Отчего это. Мужик во мне помер — вышел весь — из конца. Нынче баба вовсе не нужна. Выйди на волю, жена сбежала бы от меня. А все — карьер проклятый, — пожаловался человек на соседней шконке.
— А за что вас сюда пригнали? — поинтересовался Ананьев. И, достав пачку папирос, решил закурить.
— Не кури в бараке, слышишь? Не смей. Нельзя у нас курить.
— Иди наружу.
— Не вздумай тут вонять! — послышалось со всех сторон.
— Хватит просить! Уже все! — положил Виктор папиросу в пачку.
— Ты не злись. Посиди тут с нами, — придержал человек Ананьева, вставшего со шконки.
— Сам пойми, работаем в карьере. Все, кто курил раньше, — побросали. Тяжело стало. Легкие не переносят дыма. Ослабли. Как кто закурит, всех начинает кашель душить. Отвыкли от табака, отказались.
— И он скоро курить закинет. Не захочет сойти, сгореть лучиной за месяц.
— Если все так, как вы говорите, велика ли разница — через месяц или полгода сдохнуть? Чем скорее, тем лучше. Меньше мучиться, — ответил Ананьев.
— А это ты у тех спроси, кто последние дни здесь доживает. Им видней. Они уже все прошли и видели, все испытали, но на тот свет не торопятся, каждым днем дорожат, держатся за эту жизнь, какая она ни на есть. Хотя боли и мук познали очень много…
— Я себе жизни не попрошу. Коль попал сюда — в безвыходность, дорожить шкурой не стану, — ответил Виктор.
— Не зарекайся. У тебя все еще впереди. Вот ты спросил, за что мы здесь? Всяк за свое. И все — ни за понюшку табаку. Я, к примеру, за то, что стукача избил. Он в нашем доме всех пересажал. Пакостливый гад! Жил в грязи, как хорек. Ну и захотелось ему соседскую квартиру. Большую, чистую. И занял ее! Хозяев доносами выжил. Их забрали. Он вселился. Со своими голожопыми. Потом второго соседа выкурил так же. На тряпки и барахло позарился. Третьего — своего начальника — на Печору согнал. Его в должности повысили. Вот и распустил хвост стукач. В партию вступил. До чего дошел, родную бабу запродал, засветил чекистам. И когда ее забрали, он детей своих родителям жены в деревню сплавил. А сам с молодой шлюхой скрутился. Соседкой. Когда ее муж хотел откостылять стукача — и его упрятал.
— А баба? — ахнул кто-то.
— С ним живет, блядища! Про мужа будто запамятовала. На фамилию его, кобелиную, перешла. Катковой стала.
— Что?! — взвился Виктор, вспомнив свое. И Каткова… «Наседку» в камере, прикинувшегося машинистом паровоза.
— Чего побелел? — удивился рассказчик.
— Каткова того как звали? Уж не Костя ли случайно?
— Нет. Не Костя, Никифор он. Мы с ним в соседстве полжизни прожили. А тут не выдержал. Из мужиков только я остался на воле. Он и я на весь дом. Выпили мы с ним как-то по рюмашке, а он и давай хвалиться, как лихо в люди выбился. Меня и разобрало зло. Аж кровь в висках застучала. Ухватил я его за грудки да как трахнул головой об стену. Что сил было. Никишка сам себе язык откусил. И дураком остался на всю жизнь.
— А кто ж тебя посадил, если ты его дураком оставил?
— Чекисты! За шестерку свою отплатили. Баба, сука подзаборная, какая с ним сжилась, наляскала на меня. Ночью и сгребли. Молотили всей шоблой-еблой. Хотели враз убить. А потом надумали сюда спихнуть, чтоб не просто сдох, а и помучился перед кончиной вдоволь. Мол, скорая смерть — наградой мне была бы. А что на моем месте сделал бы любой, если тот Никифор в лицо сказал, мол, двоим нам с тобой в одном доме тесно. Хватит тут и одного мужика. А меня — пора отправить проветриться. На севера, следом за соседями… Ну кто такое стерпел бы? Скажи?!
У Виктора кулаки в булыжники свернулись. Побелели.
— Я бы этих стукачей, попадись в руки, ни одного бы не пощадил…
— Тоже обоврали? — спросил из-под одеяла постоянно мерзнувший человек в очках.
Он дрожал от озноба, но слушал разговор, завязавшийся по соседству.
Ананьев рассказал о себе. Все, без утайки. И только в конце спохватился:
— А у вас сук нет в бараке?
— Сюда стукачи не попадают. Их берегут. А тут, в нашей зоне, они уже не нужны! Говори спокойно все, что думаешь, что на душе. Отсюда уже никуда не выйдет. Все тут останется. Навсегда. И умрет вместе с нами.
— Мужики, отбой! — заглянул в барак охранник. И тут же исчез, даже не вошел.