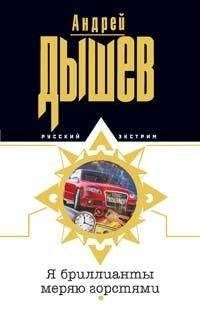Ее уже не тошнило, но казалось, что желудок сжался в маленький комок и от страха забился куда-то под самое сердце. Она почистила зубы болгарским «Помарином» – острым и едким, как хлорка, тщательно прополоскала горло, запрокинув голову, а потом стала отмывать руки щеткой. Самое уязвимое место у человека – ногти. Под ними, как в генах, скапливается информация о том, что человек делал, что ел, где был, к чему прикасался в последнее время.
Дина яростно работала щеткой, время от времени опуская пальцы в коробку со стиральным порошком. Мелкие, невидимые глазу порезы, стали гореть огнем, и девушка морщилась и покусывала губы.
Потом она подняла с пола кроссовки и поднесла их к лампе. В глубоком протекторе застряли мелкие камешки с железнодорожной насыпи и коричневая глина. Ей стало казаться, что вся подошва выпачкана в крови Макса. «Здесь точно найдут! – подумала она. – Ничего я не отмою. Надо сжечь. Или закопать в парке».
Кроссовки были новые, но Дина без колебаний сунула их в полиэтиленовый пакет и завязала его горловину узлом. Потом наполнила стиральную машину горячей водой, высыпала туда полпачки порошка и кинула свою одежду.
«Надо успокоиться и взять себя в руки, – думала она, стоя под струями душа. – Никто меня не видел. Никто ничего не докажет. Кроссовки я отнесу вечером на собачью поляну, где мальчишки разводят костры, и сожгу их. Одежду постираю в трех водах. И алиби искать не надо. Где была ночью? Спала дома! А кто это видел? А никто, потому что все в это время спали!»
В дверь ванной постучали, и она вздрогнула. Некому было стучаться, кроме Власа, но нервы Дины были настолько напряжены, что ее пугал любой посторонний звук.
Прижав к мокрому телу полотенце, она подошла к двери.
– Чего тебе? – спросила она, стараясь придать голосу сонный и равнодушный оттенок.
– Тебя к телефону, – ответил Влас из-за двери.
– Кто? – На этот раз, кажется, голос ее дрогнул.
– Назарова.
Дина с облегчением вздохнула и стала пристраивать полотенце тюрбаном на голове. «С Назаровой покончено, – подумала она. – На ее опасные игры нет времени. Дай бог успеть взять то, что уже лежит на поверхности. Там побольше, чем три «мерса». Там на десять «мерсов». А может быть, на двадцать. Или на сорок».
– Скажи, что меня нет, – ответила она, стоя перед зеркалом и растирая крем по лицу. – Скажи, что уехала в Семипалатинск навсегда. А лучше, что умерла и ты меня вчера отвез в крематорий, а сегодня развеял мой прах с Останкинской телебашни.
Стиральная машина автоматически отключилась. Дина приподняла крышку активатора, высыпала в мутную воду оставшуюся половину порошка и снова включила мотор.
«Никто ничего не докажет», – еще раз, уже с полной уверенностью, подумала она и, накинув халат, вышла из ванной.
Влас, оказывается, все это время стоял у дверей. Отключенную телефонную трубку он держал в опущенной руке. Дина, не глядя, почувствовала его взгляд. Это был тот самый взгляд, полный боли, тоски и мужества, который несколько лет назад заставил ее сердце содрогнуться от жалости и безрассудно отдать этому человеку нежность и тепло, забыть о себе и раскрыть душу, как перед беззащитным младенцем.
Теперь сердце молчало, а душа была закопана и придавлена сверху могильной плитой. Не останавливаясь рядом с Власом, Дина прошла в спальню и закрыла за собой дверь. Она легла поверх одеяла, вытащила из-под себя пульт и включила телевизор. По экрану побежали цветные пятна, сопровождающиеся звуками. Дина не понимала значения этих пятен и звуков. Перед ее глазами все еще стояло бледное, нездоровое лицо Власа, исполосованное шрамами, и глаза, полные тоски.
«Никого нельзя жалеть, – думала Дина. – Один раз выслушаешь, впустишь в душу, потом придется выдергивать щипцами».
Она вспомнила, как впервые увидела Власа в больнице МПС, куда его привезли сразу после аварии на автогонках. В реанимации он лежал две недели, затем его перевели в палату для тяжелых. Тогда Дина не увидела его лица, оно было скрыто под слоем бинтов. Только глаза и губы. Волнуясь, она села на стул рядом с его койкой. Диктофон выпал из сумочки, ударился о пол и перестал работать. Она записывала слова Власа в блокнот огрызком карандаша. Ей хотелось написать захватывающий очерк о мастере спорта, бесстрашном гонщике, но Влас почти ничего не рассказывал о машинах, о трассах, запредельных скоростях и авариях. Он говорил о том, как от него ушла жена, о деньгах, которые ему придется отдать в Германии за операцию на позвоночнике, о том, что друзья с каждым разом приходят все реже и реже, потому как у них и без того много своих проблем.
Дина слушала его и плакала. Очерка не получилось. Фризов объявил ей выговор и перевел из отдела спорта в спецкоры. Дина бегала в больницу к Власу каждый день и приносила ему крепкий бульон и мумие.
Он вышел из больницы на костылях. Кроме Дины, его встречали старший брат, тренер и ребята из команды. Они были очень жизнерадостные, веселые, постоянно хлопали Власа по плечу и зачем-то лгали про будущие спортивные успехи Власа, золотые медали и запредельные скорости. А он, бледный, слабый, худой, нервно дергал головой и до боли сжимал руку Дины.
Потом он на полгода уехал лечиться в Германию. Часть денег передал спорткомитет, какую-то часть собрала команда, остальное оплатил Влас своими гонорарами за золотые медали и трехкомнатной квартирой. Она писала ему письма, он отвечал редко и скупо, не столько рассказывая о лечении, клинике и Берлине, сколько о перспективах своей жизни. Вроде как в шутку он фантазировал, как где-нибудь в Москве будет сидеть в подземном переходе с протянутой рукой, а над его головой, на мятом куске картона, кривыми буквами будет нацарапано: «Люди добрые! Ради Христа святого! Помогите бывшему автогонщику на платную операцию». Дина рвала такие письма на мелкие кусочки, прижимала обрывки к лицу и, до боли стискивая зубы, мысленно клялась себе, что не допустит этого.
Ей хотелось чуда и благородства. Она читала и перечитывала в газетах и журналах трогательные истории о возвышенной и бескорыстной любви, когда молодые и красивые девушки отдавали свои сердца покалеченным на чеченской войне парням и как все замечательно потом получалось. Она представляла, как будет всю жизнь служить Власу – такому прекрасному и мужественному парню, как будет вывозить его в кресле-каталке на улицу, идти по парковой аллее, высоко подняв голову, а прохожие будут оглядываться и перешептываться между собой.
Сказка, которую она придумала, была прекрасной, но в ней не было ответа на один вопрос: на какие деньги Дина собиралась жить с Власом. Ей не хотелось об этом думать. Все, что касалось материальной стороны жизни, вызывало в ней отвращение. Нищета наступала ей на пятки, когда она была студенткой факультета журналистики, когда устроилась в газету к Фризову и сняла квартиру, когда ходила по магазинам на Новом Арбате и смотрела на витрины, умирая от зависти к женщинам, паркующим рядом собственные иномарки. Мысли о деньгах были пыткой. Они отравляли сказку, отравляли то светлое и чистое, что зарождалось между ней и Власом.
Сказка так и умерла никем не прочитанной. Как-то Влас позвонил из Берлина ей домой и сказал, чтобы она срочно готовила загранпаспорт. На той благодатной почве, в которую Дина, не жалея, вкладывала свои любовь, заботу и сострадание, ничего не взошло. Почва оказалась бесплодной. Во всяком случае, Дина внушила себе, что это так. Когда деньги хлынули на нее обвалом, вспоминать про сказку стало стыдно, и не было для Дины уже ничего более страшного, чем снова стать нищей. Потому она легко, не мучаясь, не сдерживая чувств, возненавидела Власа только за то, что он начинал трясти головой, выходя из машины к инспекторам ГАИ.
* * *
Гера нарезал тонкими ломтиками «шпиг копченый по-казацки», который Бодя купил в Елисеевском гастрономе, и аккуратно разложил янтарные лепестки на тарелке. Вторым деликатесом, которым его компаньон решил побаловаться, были «вареники с картошкой и шкварками». Вода в кастрюле закипала. В комнате было душно. Через наглухо закрытые окна и ставни не проникал дневной свет. Сидя на полу рядом с настольной лампой, Бодя пересчитывал деньги, раскладывая их вокруг себя ровными стопками.
– Три тысячи двести тридцать три доллара, – объявил он, прижимая ладонью к стопке последнюю купюру.
– Всего-то, – разочарованно произнес Гера. – И из-за этого Лемешев убил двух людей?
Бодя кинул на него негодующий взгляд.
– Это Лемешев мог сказать «всего-то»! А ты что такими словами разбрасываешься? Да такие деньги мне в самом сладком сне присниться не могли! Я ж на них половину своей деревни вместе с навозом купить смогу!
– А зачем тебе столько навоза?
– Ночью по Москве раскидывать буду!.. Смотрим дальше. А цэ що таке?
Он вертел в руках тугой пакет из пергаментной бумаги размером с большой конверт. Поднес к лицу, понюхал.