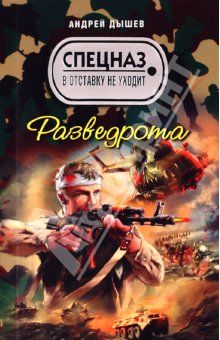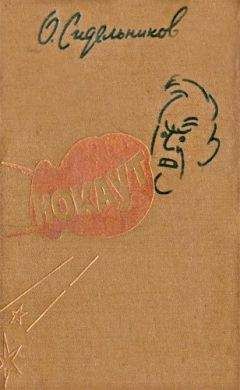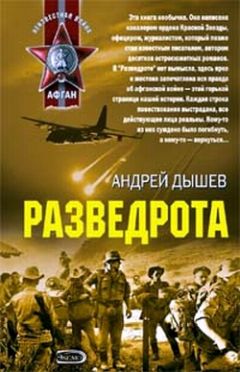Обеды у Марыча были маленькими праздниками. Как-то за столом Юрка Шилов стал расхваливать сержанта:
– Кстати, он львовянин. А знаешь, где работал до армии? Официантом в «Фестивальном»!
Я вспомнил. Кажется, это был ресторан высшей наценочной категории.
– Что ж, будем считать, что мы сейчас обедаем в «Фестивальном».
Раскладывая на столе приборы, Марыч взглянул на меня и невозмутимо добавил:
– А учился я в той же школе, что и вы… Я вас помню.
Я невольно встал из-за стола. Шансы на подобную встречу практически равны нулю, не может быть мир так тесен! Но факт оставался фактом. Вздох удивления, восхищения, радости. Мы жмем друг другу руки. Мы не находим слов, но находим друг у друга знакомые черты. И понеслись воспоминания:
– Слушай, а ты Слона помнишь?
– Конечно, помню. Бухает он часто. А Новичков не с тобой учился?
– Нет, в параллельном…
– Он в ансамбле сейчас…
– А кто у вас была классная?..
В мрачном, убогом Баглане, где обстреливают чуть ли не каждую вторую колонну, за многие тысячи километров от Европы я мог говорить и слушать о своей школе, о Слоне, который бухает, о львовских улицах, на которых в мае расцветают каштаны, и не было для меня понятнее и приятнее этих разговоров. В мае Марыч должен был уволиться и вернуться туда, где мы с ним, как сейчас, были рядом.
* * *
Геннадий Бочаров с удивлением писал, что «афганцы» не могут точно передать словами своих ощущений, которые возникали у них в бою, в минуты смертельной опасности. Наверное, так бывает потому, что до Афганистана ребята не сталкивались с ситуациями, которые бы один к одному передавали «вкус» войны. Они впитывали в себя мирные сравнения и образы, а такими красками войну точно не нарисуешь. И вообще, чувства, ощущения, вызванные войной, сугубо личные, почти интимные.
Десантники как-то рассказали мне о прапорщике Андрее Макаренко. Во время операции он подорвался на минном поле. Лежал без ноги, истекая кровью, и прощался с жизнью. Его смогли вынести; сделать это на минном поле – настоящий подвиг. Да вот только почти у самой «брони» еще один подрыв. Еще один удар по израненному телу. Спасло только то, что основная масса осколков пришлась на тех, кто нес Андрея. Для эвакуации раненых вызвали вертолет.
Занесли в салон раненых, пожали летчикам руки. «Вертушка» оторвалась от земли, а через пять минут полета у нее отказал двигатель…
Макаренко трижды прощался с жизнью. Всерьез и навечно. И трижды встречался с ней снова. Представляете его ощущения? Не очень?..
Полезнее было бы выяснить ощущения тех людей, чью волю исполняли тысячи таких Макаренко, Шаниных, Марычей, Шиловых, по чьему приказу войну впустили в нашу жизнь.
Война для руководства – статистика да красные стрелы на карте, которые, высунув языки от усердия, рисовали штабные клерки. Война для исполнителей – боль, жажда, понос, матюги, бинты, бинты, бинты и вечный вопрос: «Зачем?»
* * *
Мы шли по узкой тропе над кишлаком Доши. Карабкался по крутому подъему следом за хромающим солдатом лейтенант Володя, который через месяц навсегда расстанется с ногами и армией. Тяжело дышал рядом артиллерист Игорь, которого не будет уже через неделю, и умрет он мучительно и страшно. Гремел ботинками светловолосый ротный Миша Порохняк, для которого предстоящий бой будет первым, но далеко не последним, и который упадет на горном перевале от сердечного приступа в двадцать четыре года. Шел в нашей «ниточке» артиллерийский корректировщик Николай, бородатый, красивоглазый, молчаливый, больше похожий на богомаза, чем на офицера. Мы шли по тропе долго, и я, как мог, экономил силы, чтобы не наступил момент, когда меня вынуждены будут тащить солдаты. Тогда обстрела не ожидал никто, и вся рота побежала под откос, прячась от пуль. Мы с Порохняком зарылись в сухое русло ручья, похожее на окоп.
Страшно было приподнять голову, и ротный, вжимаясь всем телом в песок, кричал солдатам, чтобы они прикрывали радиста, чтобы бежали вперед, к подножию сопки, куда огонь противника не мог достать. А когда рядом с нашей ямой стали разрываться мины, ротный громко сказал распространенное матерное слово, означающее крайне плохую ситуацию, и стал белым как бумага.
Бой не стихал до ночи. Когда стемнело, солдаты отрыли на склоне сопки яму для командира роты, застелили ее плащ-палатками. Расставили посты. Ротный все время жаловался на адскую головную боль. Мы оба скрючились в яме, поджав колени к животам, и так лежали всю ночь.
Под нами, в низине, еще продолжалась стрельба. Красные трассеры вили гигантскую паутину над кишлаком Доши. Радиостанция работала на прием, и в эфире сквозь треск помех звучал разъяренный голос начальника штаба дивизии: «Вот так из-за вас погибают люди… Вы ответите… Ищите с ними связь, высылайте поисковую группу!» Его абонента почти не было слышно, он пытался оправдываться, но начальник штаба даже не слушал его. Пропало четверо солдат, которые понесли к технике своего товарища, раненного в живот. У них была маленькая радиостанция, но на позывные группа не отвечала. Никто не знал, где они, что с ними. «Почему вы разрешили им спуститься в «зеленку»? – кричал в эфире начальник штаба. – Почему они не пошли сверху по блокам?» – «…они не прошли бы, только… давал приказа спускаться… – едва пробивался ответ. – Солдат тяжело… по блокам они… его живым… в сто раз безопаснее…»
Под утро в районе стихло, но ненадолго. Когда взошло солнце, над нами появились «вертушки». Они, а затем и артиллерия, густо сыпали бомбы и снаряды на ту сопку, с которой вчера обстреляли нашу роту. Мы снова обнимались с землей, накрывали головы бушлатами, рюкзаками, просто ладонями, потому что горячие рваные осколки долетали до нас. Это была уже бессмысленная огневая атака, потому что душманы за ночь ушли далеко-далеко от этой сопки, оставив после себя обложенные булыжниками огневые позиции да россыпи остывших гильз.
Потом нам стало известно о четырех пропавших солдатах. Только под утро они вышли на позиции артиллеристов, волоча за собой двух ишаков. К ним были подвязаны самодельные носилки, на которых лежал уже отмучившийся солдат. Он умер ночью, и искусственное дыхание, которое делали ему товарищи, ненадолго продлило его жизнь.
Солнце обжигало округлые сопки, и нигде не было тенечка, чтобы спрятаться от его слепящей белизны. Наш пулеметчик лежал на позиции лицом в траве. Все подумали, что его убило, потому что солдат не реагировал на окрик. Оказывается, он заснул под обстрелом. Сержант приподнял голову пулеметчика за волосы и наотмашь ударил его по лицу. Порохняк отвернулся, сделав вид, что не видит. Война и приученные к ней сержанты диктовали сейчас свои порядки.
Трое солдат принесли из долины воду в пластмассовых флягах. Мы с ротным пили последними, вливали в себя теплую, отдающую болотом арычную воду, и мысли о гепатите и тифе казались смешными.
Недалеко от нас, на прогалине, где вчера душманские пулеметы заставили залечь роту, афганские «сарбозы» подвешивали на палках овцу, распарывали штык-ножами ее брюхо, вываливали синие внутренности, сдирали кожу, хватаясь за желтую шерсть. Труп раскачивался на шесте, будто животное еще дергалось от боли.
Порохняк вскрыл последнюю банку рисовой каши с мясом. Я не стал есть.
Мы думали, что «вертушки» сбросят нам воду и продовольствие. Ротный все утро бегал по склону с патроном красного дыма в руке. «Ми-24» проносились над нашими головами в каких-нибудь десяти метрах, но ничего не сбрасывали. Спасибо, что хоть не отбомбились по нас.
Эфир молчал. Штаб долго принимал решение. Мы мечтали только о том, чтобы дали отбой.
Отбой дали, и к вечеру мы спустились к реке. Люди мылись, согревали чай на чадящих соляркой пустых цинках из-под патронов, спали, повалившись друг на друга у катков боевых машин. Офицеры вытаскивали из своих сумок замусоленную снедь, откуда-то появились полиэтиленовые пакеты с вонючим, мутным шаропом – афганской самогонкой, кто-то считал и расставлял на газете эмалированные кружки. Было спокойно, устало-удовлетворенно, по-фронтовому весело. И сыпались за импровизированным столом истории одна невероятнее другой, и ржали, гоготали небритые дядьки в тельняшках, и кого-то бросали в реку прямо в одежде… А потом третий раз нацедили в кружки из дырочки в кульке, замолчали, притихли, посуровели. И по очереди стали называть фамилии – две украинские, русскую и узбекскую. И поднялись на ноги ротные, взводные, корректировщики, наводчики, замполиты. И, не чокаясь, шарахнули по глотку вонючей афганской водки. Покурили молча, поглазели на темнеющие тихие горы, разобрали кружки, ложки, ножи и пошли по ротам, взводам.
Я спал в БМП, на месте механика-водителя. По-моему, никогда в жизни я не спал так крепко и сладко.
А с утра колонна выстроилась на шоссе и с восходом солнца стала ввинчиваться в горы. Нам предстояло пройти печально известный перевал Саланг. За несколько часов мимо нас проплыли все времена года. Теплая весна сменилась дождливой осенью, и шум стремительной ледяной реки заглушал натужный рев машин. А на перевале мокрый, с ветром, снег заметал колею, на бетонных перекрытиях – желтая от выхлопных газов наледь, рваные низкие тучи над заснеженными скалами.