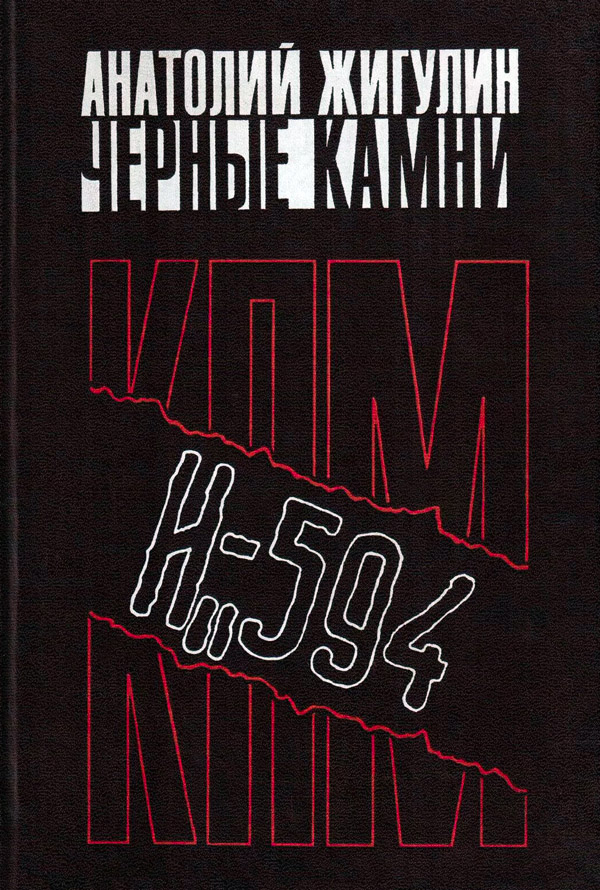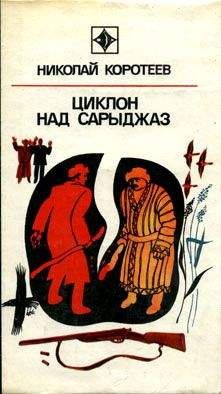опустил голову.
— Могу вас огорчить, — убежденно заявил Буторин. — Собственная жизнь — не есть самое главное на свете. Если вы, конечно, настоящий человек, мужчина, если у вас были родители, которые вас воспитывали, если у вас была Родина.
— Вы так считаете? — усмехнулся Русаков. — Своя она, как-то не чужая, к своему телу ближе.
— Ближе! Когда нет любимых людей, когда нет Родины, когда не о ком заботиться, не за кого переживать. Да! Тогда своя ближе всего, потому что нет же ничего больше ни за душой, ни в душе, ни в сердце. Тогда можно думать только о себе. А вот когда за твоей спиной вся огромная страна, когда могилы родителей, когда заплаканные глаза ребятишек смотрят на тебя и на подобных тебе и просят защитить, спасти… А матерей, руки матерей вы помните? А березку у калитки в деревне, рядом с домом матери? А соловьев в мае, когда лежишь под утро с девушкой на сеновале и вдыхаешь аромат ее волос и запах прошлогоднего сена? А солнце на закате, а рассвет, когда первый луч солнца падает на твою подушку? А рождение твоего первого ребенка и счастливые глаза твоей жены? Я не понимаю, как на свете можно дорожить только своей шкурой и не иметь вообще ничего дорогого, ценного!
— Я говорил о другом, не о высших материях, — попытался оправдаться арестованный.
— А они не высшие. Они самые что ни на есть простые, доступные и лежат на самой поверхности души человека. Это когда шла Гражданская война, можно еще было спорить и относиться с пониманием, что каждый воюет за свою Россию, за свое прошлое и свое будущее, будущее своей Родины. Но сейчас, когда на нас напал враг, чужое государство, которое хочет поработить и уничтожить нас! Тут вообще о чем можно говорить между собой двум гражданам этой страны? О чем, кроме как не о спасении Родины от общего врага? Правда, если один из собеседников враг, тогда говорить, конечно, не о чем. Так вот я и хочу знать, понять, кто вы, Русаков? Враг или не враг? Враг или человек, оступившийся, подвергшийся временному помутнению рассудка, испугавшийся, но готовый победить свой испуг, готовый выбраться на поверхность из омута своих заблуждений?
— А вы мне поверите, если я скажу, что готов кровью искупить свою вину? — вдруг повысил голос арестованный. — Вы говорите, что не можете в мою душу заглянуть. Так как же вы поверите?
— Поверю, — спокойно ответил Буторин. — Есть у меня опыт, большой опыт работы и с подонками, и с убежденными патриотами, готовыми на все ради Родины. И с людьми, готовыми клясться в чем угодно, лишь бы спасти свою шкуру. Такие люди и готовы на все, на любые поступки ради спасения. Но только ради спасения, а не ради Родины, искупления грехов, не ради преданных близких людей. Вы инженер, а не актер и вряд ли сможете сыграть роль раскаявшегося человека.
— Не смогу, это точно, — вздохнул Русаков. — Никогда не получалось врать.
— Хотите, чтобы я вам поверил?
— Хочу, — тихо ответил мужчина.
— Пойдете с нами до конца, сражаясь за Родину, или только до тех пор, пока это выгодно лично вам?
— Умереть я могу и здесь, как вы сказали… в тюремном дворе. А жить я могу остаться только с Родиной и ради нее. Так что хочу жить и сражаться. И смыть с себя позор трусости, слабости. А если придется умереть, то умру как честный человек.
— Ну что же, — Буторин одобрительно кивнул. — Сказано хорошо. Просто и хорошо. Пока вам придется побыть в камере. Сами понимаете, что это необходимо по многим причинам. И пока есть время думать, будем с вами думать. Итак, вы сказали, что прибудет еще одна группа. Вам велено дождаться ее и под руководством человека, который придет с этой группой, начать диверсии?
— Да. Я точно не знаю, но у меня создалось впечатление, что кто-то есть на этой территории, восточнее Байкала, кто начинает уже подготовку, вербует людей. Но это рядовые исполнители, расходный материал. Наша группа хорошо подготовлена и будет выполнять самые важные задачи, в решающий момент вмешиваясь в операцию. Наверняка будут и обманные мероприятия, чтобы сбить с толку НКВД. Но те группы, которые уже действуют, этого не знают. Они думают, что выполняют основное задание. Каждая свое.
Коган заявился на конспиративную квартиру уже около двенадцати ночи. Уставший и голодный, он едва вытер ноги о коврик у входа, сбросил пальто и сразу кинулся на кухню.
— Слушай, Максим, есть чего пожрать?
— Откуда ты такой голодный? — усмехнулся Шелестов. — Иди садись, налью тебе похлебать. Выпьешь? Я тут водочкой разжился по случаю.
— Так это же шикарный ужин! — восхитился Борис. — Где тут руки моют?
Выпив рюмку водки, Борис накинулся на жиденький супчик, уминая кусок ржаного хлеба и прикусывая нарезанным репчатым луком. Шелестов смотрел на Бориса с удовольствием. Умел он все делать с аппетитом.
— Давай еще по одной, — отодвинув опустевшую тарелку, предложил Коган.
Они выпили, закусили хлебом с луком, а потом, откинувшись на спинку стула, довольный, как кот, Коган закурил и выпустил струю дыма в потолок.
— Ну, есть у тебя что-то интересное? — спросил Шелестов.
— В принципе, о Петрове я собрал информацию, представление о нем получил. Чтобы кто-то заметил в нем изменения, что он стал другим, более замкнутым, я не сказал бы. В военные годы все люди в той или иной степени меняются. Исполнителен, покладист, с начальством не спорит, да и нет у них на заводе каких-то трений между начальством и подчиненными.
— То есть Петров ничем не выделяется из массы рабочих и других сотрудников? — с сомнением спросил Шелестов.
— Выделяется, погоди ерничать, Максим, — многозначительно поднял палец Коган. — Понимаешь, про него говорят, что он двужильный какой-то. Может и ночь не спать, и две. Всегда в хорошем настроении, на позитиве весь. Готов работу другого взять на себя, если кто-то заболел или по другой причине не может выполнять свои обязанности. Я подумал сначала, что он хочет выглядеть положительным, эдаким хорошеньким для начальства, чтобы не вызывать подозрения в измене, а потом присмотрелся к нему. Нет, друг ты мой ситный, он по характеру такой.
— Надо поискать в окружении женщину, в которую он влюблен, — посоветовал Шелестов.
— Надо, — согласился Коган. — Я тоже подумал, что он, может быть, просто влюбился. На мужиков это знаешь как порой действует. Что твой женьшень.
Икэда сидел на поваленном стволе дерева и покуривал прямую короткую трубку. Двое солдат подвели к нему Сосновского и приказали опуститься на снег. «Ладно, — подумал