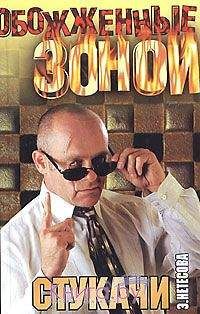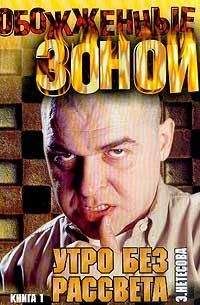Варька жалась к подруге, согласно кивала головой и часто мелко вздрагивала, оглядывалась по сторонам испуганно.
Они так и уснули на одной койке, поджав под себя ноги, скрутившись в клубок, согреваясь дыханием друг друга.
А утром, ни свет ни заря, их разбудил зычный голос бригадирши.
— Эй, вы, шмакодявки психоватые, кончай дрыхнуть! Живо на работу! — и погнала девчонок на ферму, где полсотни коров, похожих на скелеты, не имея сил мычать, вы-ли в стойлах от бескормицы.
— Вот вам зверинец! Знаете, что с ним делать иль нет? — спросила бригадир.
— Знаем. Но где корма? Где ведра, лопаты, бидоны, подойники?
— Может, тебе еще и полотенца нужны? — нахмурилась баба, подбоченившись.
— Конечно, понадобятся, — оробела Тонька.
— Да мы их сами в глаза не видим. Уже три года. Хоть и не скотины, бабы все ж… Умейте и вы обходиться. А нет — в дурдом воротим нынче же, — пригрозила обеим. И, глянув на притихших, испугавшихся девок, ухмыльнулась и, уходя, бросила через плечо: — То-то же, сикухи мокрожопые. А то развесили губища!
Тонька с Варькой до обеда разносили по кормушкам сено, поили коров из ведер, какие нашли в подсобке. Мыли, отскребали стойла, проточники, проход. Потом и за самих коров взялись.
На чердаке нашли мешки комбикорма. И, растопив печку в подсобке, запаривали его, кормили коров.
В обед к ним на ферму пришла бригадирша. Принесла хлеб, котелок перловой каши. И, оглядев изменившуюся, выскобленную ферму, сказала удивленно:
— Значит, управляетесь? Порядок наводите? И то ладно. Не зря хлеб жрать будете. Не дарма. Но я вас проверять буду всегда. Помните это, шмакодявки! Глаз с вас не спущу! А пока лопайте.
Когда она ушла, девчонки снова взялись за дело, подоткнув подолы, закатав рукава.
Они чистили коров, проветривали ферму, убирали вокруг нее мусор. И даже коровы, удивленные забытым вниманием, перестали истошно выть. Поверили, на ферме появились хозяйки, какие не бросят, не забудут.
А Тонька с Варькой снова кормили их, поили. Не бранились, не кричали. Управлялись быстро, молча, словно всю жизнь провели в коровнике.
Вечером на тощей кляче привезла какая-то старуха телегу картошки. И, скинув ее лопатой в угол, сказала:
— Это на завтра. Вечером опять привезу. Но раздавайте сами, помогать некому. Всем делов по горло хватает. И вы крутитесь, покуда не сдохнете.
Девки ничего не ответили. Ни о чем не спросили женщину. Да и не до разговоров было. Успеть бы к ночи все переделать.
С коровника они ушли уже затемно. Усталые, еле доплелись до барака. И тут же легли на койки. Но вскоре вскочили от крика:
— Эй, Семеновна! Ты погляди на этих вонючек! Завалились неумытыми! От них вонища столбом! Дышать печем. Либо выкинь, иль мозги вправь засранкам! — кричала тщедушная, малорослая баба, открыв широкий, горластый рот.
Бригадирша тут же явилась на зов.
— Чего развалились, как стельные? А ну живо! Рожи помыть! Чтоб духа говенного тут не было! Не в коровник, в жилье пришли. К людям нормальным! Брысь на двор — под душ! — двинулась на девок. Те выскочили из барака под хохот, смешки и шепот жительниц. Вымылись под холодной водой и, вернувшись на койки, долго стучали зубами, никак не могли согреться. И лежали укрывшись с головой.
Варька, не выдержав, перешла к Тоньке. Вместе теплее. И вскоре уснула.
Нет, ты погляди на этих навозниц! Приперлись с фермы и враз дрыхнуть! Как будто уборка барака их не касается! Они нас что, за людей не считают? — не унималась тощая баба, крутясь осой вокруг койки девок. И тут Тонька не выдержала.
Тихо встала, чтобы не разбудить подругу, и, вызвав бабу и коридор, сказала ей так, чтобы все услышали:
Закрой пасть. Иначе плохо будет! Я порог едва перекупила и не буду за всякой тварью говно мыть. Хватает с нас коровника. А будешь скрипеть под ухом, пожалеешь…
Семеновна! Бабы! Вы слышали? Психичка мне грозит! Теперь пусть на себя пеняет. Я не спущу! — кинулась на девку и вцепилась ей в волосы.
Тонька оторвала ее на себя, придавила к стене плечом. Предупредила:
— Угомонись. Не приставай.
Но баба, вывернувшись, диранула ногтями по лицу. Тонька свалила ее на пол и, придавив коленом, била по худой костлявой рожище наотмашь. Баба орала, визжала, дергалась. Тонька потеряла терпение. И, ухватив за волосы, ударила ее головой о пол. Баба закатила глаза. Затихла.
— Ты что, стерва, утворила? — сорвала Тоньку с пола бригадирша. И, держа ее за шиворот, трясла в воздухе, как тряпку.
— Угробила Шурку, курва! Да я из тебя самой душу выпущу, коль она не оклемается! Ишь, сука психическая! На людей кидаться вздумала!
— Она первая полезла. Чего ж тогда молчали все? Чего ее не заткнули? — не выдержала девка, едва коснувшись ногами пола.
— Ты еще оговариваешься, свинья?!
— Отстань, Семеновна! Права девка. Шурка сама обосралась. Чего прицепилась к новеньким? — вступилась за Тоньку старуха, привозившая на ферму картошку.
— И ты туда же? Чего в чужую задницу суешься? В свою смотри! — распалилась бригадирша, но тут же осеклась, заметив открывшиеся глаза Шурки.
— Твое счастье, жива баба. Иначе вогнала бы тебе голову в сраку, — пригрозила Тоньке Семеновна и, забыв о причине скандала, вскоре занялась Шуркой.
Тонька вернулась к Варе. До самого утра их никто больше не тревожил.
А едва стало светать, встали девки сами. И, выпив по стакану чая с хлебом, ушли на ферму.
В обед им привезли котелок картошки, пару селедок, полбуханки хлеба. Девчонки проглотили все мигом. И снова, не разгибаясь, чистили, мыли, скребли, кормили, поили коров. Им они пели вполголоса любимые песни. Их гладили, разговаривали, как с людьми. Называли ласково, словно подруг. С ними оттаивали, забывали о случившемся.
— Красуля ты моя, ненаглядная, умница! Лапушка наша добрая. Ну, попробуй встать, солнышко рыженькое. Послушайся. Собери силеночки. Нам ведь тоже нелегко. Ан упасть нельзя. Растопчут насмерть ведьмы — Семеновна с Шуркой. Вот и держимся из последних сил. Хоть поверь, жить ой как не хочется. А надо. Чтоб бабуленьку свою увидеть, старость ее согреть, все я перенести должна. И ты мне поможешь, не подведешь, милая. Выживешь. Обязательно на ноги встанешь, на луг пойдешь, на траву. Пастись. Может, еще свет увидишь. Не то и тебя рогами к стенке поставят. Убьют. На мясо. И не спросят, хочешь ты того или нет? Вставай, сердешная. Оживай. Прошу тебя, — испугалась Тонька, услышав за спиной сопенье. И оглянулась. Увидела вчерашнюю старуху, привозившую картошку.
— А говорили, что психические… Это мы — дурные, — терла бабка глаза. И, подойдя к Тоньке, продолжила тихо: — Картоху опять доставила вам. Прими, дочушка. Да вот поесть припрятала. Возьмите. Силенки ой как нужны тут, — достала пяток яиц и хлеб.
— Спасибо. И за вчерашнее. Как звать вас? — поинтересовалась Тонька.
— Матрена. А тут все меня бабкой Мотькой зовут, — шмыгнула носом. И, оглянувшись на дверь, заговорила шепотом: — Вы, дочушки, тишком держитесь тут. На рожна не лезьте. Бабы средь нас отчайные водятся. Им жисть сгубить ровно пернуть. Никого не пожалеют. Ить Семеновна — бандитка сущая. Она — супостатка ссыльная. А ей в тюрьме бы гнить до гроба. Скольких баб на тот свет отправила своими абортами, счету нет. А Шурка — магазинщица. Воровка, стало быть! Ей амнистия скоро. Вот и выслуживается. Вы ее не замечайте. Себе спокойнее.
— А вы за что тут? — внезапно вмешалась в разговор Варя.
— Истопником я была. При клубе. И сама не знаю, как уснула. И пожар проспала. Еле выжила. На беду себе, — заплакала бабка.
— Много еще сидеть осталось вам?
— Три зимы. Если дотяну
— А клуб сгорел совсем?
— Нет. Потушили. Успели. Я от дыму чуть не сдохла. Еле отчихалась. А в клубе сцена сгорела, занавески и скамьи, первые два ряда. Сказали, мое счастье, что старая. Иначе б, как поджигателя коммунизма, на Колыме сгноили. А я и не знаю, за что? Ну сцену мой дед отремонтировал. Скамейки сыны сбили. Невестки занавес новый сшили. А коммунизм, видать, не смогли отремонтировать. За него и нынче маюсь, — призналась старуха, плача.
— Дед и дети ждут вас, бабуля. Не надо плакать, — пыталась утешить Тонька.
— Да что ты, родимая, старик уж два года как помер. Не дождался. Дети его схоронили. Паралик его разбил. От нервов все приключилось. Из-за меня, окаянной, — горевала Матрена. И вдруг спохватилась: — Яйцы живей ешьте. А скорлупу заройте в земь. И ни слова про них никому. Не то наплетут, что я их у коммунизма оторвала. А я на курятнике была. У Нюшки. Она и передала для вас. Но говорить вам про то не велела. Да и мне в обрат пора. Поеду, покуда лахудры не хватились. Не то устроют наказанье — в субботу на атасе стоять всю ночь.
— Зачем? — удивилась Варька. Но старуха, спохватившись, что сболтнула лишнее, закрыла рот ладонью. Залезла в телегу и, уезжая, сказала: