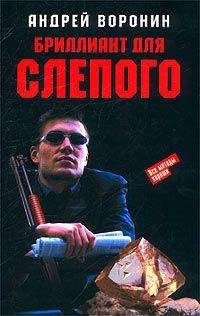Ознакомительная версия.
Убедившись, что он явился не за недоимками по земельному налогу, аборигены оттаяли и разговорились. Няньку Французова, которую они попросту именовали Петровной, произнося это слово через «я» – «Пятровна», – здесь хорошо помнили и, кажется, даже любили – настолько, что хоронить ее пришла вся деревня. Возможно, насчет своей любви к покойнице и поголовной явки на похороны по-деревенски хитроватые дедуси и бабуси приврали, но это не имело существенного значения. Погребальная церемония в любом случае была пышной и многолюдной: по произведенному Андреем подсчету, бабусь в данном населенном пункте проживало ровно семь, а дедусь и того меньше – всего четыре; что до лиц моложе шестидесяти пяти лет, то их здесь не наблюдалось вовсе.
К удивлению Андрея, Французова здесь помнили тоже: «Такой, понимаешь ли, шустрый был постреленок, так и норовил какую-нибудь шкоду учинить. Да нет, не за яблоками, что ему наши яблоки, когда он с малолетства к бананам приученный! А вот, скажем, корове на рога старую покрышку от Васькиного мотоцикла навесить или козу краской размалевать – под эту, слышь-ка, как ее… под зебру, вот! – это всегда пожалуйста. Или, когда огород-то свистком кверху пропалываешь, подкрадется, бывает, сзади, присядет за заборчиком и промеж штакетин из рогатки аккурат в это самое место ка-а-ак… Так-то, бывало, взовьешься – ей-ей как молодуха! Как в песне поется: взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать…»
Для них он навсегда остался просто Валеркой – восьмилетним веселым шкодником с чертячьими глазенками, с рогаткой в кармане вылинявших шортов и вечно сбитыми, перемазанными землей и травяной зеленью коленками. Кто-то слышал, что в Москве он будто бы достиг больших высот, но это обсуждалось вяло, без видимого интереса, как и принесенное Андреем известие о его смерти. Умерший в охраняемой полицией палате дорогой столичной клиники экс-министр был для них никто – чужой, совершенно незнакомый человек, не имевший никакого отношения к любимцу «Пятровны» Валерке. Помер, и ладно, зато пожить успел, как нам и не снилось, – таков в общих чертах был вердикт, вынесенный людьми, которые сами уже много лет стояли одной ногой в могиле.
Осторожно заявленные Липским права на наследство возражений у общества не вызвали. На предъявленной дарственной стояла гербовая печать, «Пятровна» сто раз говорила, что завещает свою избу Валерке, да и спорить, строго говоря, было не о чем: вон, полдеревни пустых изб, занимай любую и живи как умеешь! Пьешь – пей себе на здоровье, это дело обыкновенное; не буянь, не воруй, рукам воли не давай, а все прочее – твое личное дело. Словом, обществу было все равно; сенсорный голод оно уже утолило, непосредственной угрозы его призрачному благополучию приезжий, кажется, не представлял. Помощи от него, молодого крепкого мужика при машине, по давно укоренившейся привычке никто не ждал, а стало быть, его можно было отпустить с миром. Скормив дедусям полпачки сигарет и засунув остальное в нагрудный кармашек чьей-то ветхой, воняющей кислятиной телогрейки, Андрей угостил бабусь купленным в райцентре сахарным печеньем, сел за руль и, следуя полученным указаниям, повел машину в сторону дальней околицы.
Включив вторую передачу, он машинально, по привычке любого нормального водителя, посмотрел в боковое зеркало. Они стояли там, где он их оставил, коротенькой неровной шеренгой и сквозь пелену поднятой колесами пыли смотрели ему вслед – просто так, безо всякого выражения, без ожидания, надежды или, упаси бог, вражды. Андрея неожиданно пронзила острая, до физической боли и мурашек по коже, тоска. Он ничем не мог помочь этим людям; принципиально они ничем не отличались от него, успешного столичного журналиста, но прожили всю жизнь в условиях, которые можно было назвать человеческими лишь с очень большой натяжкой. И что он может для них сделать, чем сумеет загладить несправедливость? Отдать им добытые на Курилах деньги? Так ведь отнимут! Как только здешние дедуси и бабуси зачастят в райцентр за покупками – кому стиральная машина, кому микроволновка, кому новый велосипед, – местная братва мигом смекнет, что дело тут нечисто, и совершит на деревню короткий наезд, по степени разрушений и числу человеческих жертв сравнимый с набегом монголо-татар.
Все, что он мог для них сделать, – это написать более или менее пронзительный репортаж об их жизни – вернее, о том, что за неимением лучшего они привыкли ею называть. Первый из возникающих в связи с этим намерением вопросов – а кому, собственно, это надо? – представлялся спорным: авось хоть кого-то да проймет. Зато второй: кто за это заплатит? – в ответе не нуждался, поскольку ответ был известен заранее: никто, вот кто. И это еще полбеды: в конце концов, Интернет продолжает работать, и не все на свете измеряется деньгами. Беда в другом: нежелание редакторов публиковать такие материалы является частным проявлением общей тенденции. А тенденция простая: всем на все наплевать, кто успел больше всех нахватать, тот и молодец. И вообще, общества в привычном понимании слова давно не существует, оно раскололось на сотни мелких групп, и членам одной нет никакого дела до проблем другой. Все прячут головы в песок, все правы уже просто потому, что они – это они, и все без исключения очень не любят, когда их тычут носом в дерьмо, которого они же и навалили прямо под себя.
Сняв с руля правую руку, Андрей вынул из сумки свежую пачку «честерфилда», зубами разорвал целлофановую упаковку, вытянул одну сигарету, чиркнул зажигалкой и воткнул третью передачу. Воткнуть четвертую он не успел: деревня внезапно кончилась, и ему пришлось сдать назад, чтобы загнать машину на травянистый пятачок перед вросшими в землю воротами второго от околицы дома.
Заглушив мотор, он выбрался из кабины, засунул руки в карманы и, попыхивая сигаретой, стал смотреть на дом. Смотреть, в общем-то, было не на что. Расписывая прелести этого места, Французов либо безбожно врал, либо выдавал желаемое за действительное, живописуя не реально существующее строение, а созданный воображением идеальный образ – сказочную Страну Детства, какой она помнилась усталому, много повидавшему, умирающему от опухоли головного мозга человеку.
Завалившийся штакетник тихо догнивал в бурьяне, замшелая крыша опасно просела, явно готовясь преодолеть слабое сопротивление трухлявых стропил и обрушиться внутрь. Черный от старости бревенчатый сруб чуть ли не по окна врос в землю, завалинка развалилась и заросла высокой, матерой ядовито-зеленой крапивой. Высокое крыльцо с точеными балясинами и остатками затейливой деревянной резьбы накренилось под немыслимым углом, так что при взгляде на него начинала кружиться голова. Реально существующее строение было весьма близко к тому, чтобы перестать существовать, и, стоя перед воротами, которые довольно странно смотрелись на фоне практически полного отсутствия забора, Андрей усомнился в разумности своего решения провести в этом аварийно опасном курятнике ночь.
Поймав себя на этих мыслях, он усмехнулся: оказывается, его хваленое равнодушие к бытовым удобствам, как и все на свете, имеет границы. И границы эти на поверку пролегают не так далеко, как ему казалось раньше, – скажем так, где-то на полпути между роскошной ванной комнатой с джакузи и вмонтированной в стену плазменной панелью и покосившимся щелястым нужником, от которого за версту разит тем, чем и должно разить от такого сооружения.
Он оглянулся на машину, борясь с искушением прыгнуть за руль и, наплевав на потраченное впустую время, с места дать полный газ. «Уазик», казалось, не имел ничего против; он стоял, заманчиво распахнув перед новым хозяином водительскую дверцу, в медленно остывающем моторном отсеке что-то потрескивало и булькало, запыленные стекла тускло блестели, отражая вечернее солнце. Сквозь открытую дверь был виден грязный резиновый коврик на полу и выглядывающий из-под сиденья плоский, слегка изогнутый кверху кончик монтировки.
Андрей прихлопнул на шее комара и затоптал окурок.
– Хорошо иметь домик в деревне! – вслух процитировал он Французова, который в свою очередь цитировал рекламу производителя молочных продуктов, хотя вряд ли об этом догадывался. – Особенно такой, – добавил он от себя, – где имеется чердак, на котором, если верить некоторым товарищам, чего только нет.
Сказав так, он вернулся к машине, с лязгом выдернул из-под сиденья увесистую монтировку, прихватил с пассажирского сиденья полупустую сумку и, обойдя стороной калитку в несуществующем заборе, с опаской поднялся на шаткое, так и норовящее завалиться крыльцо.
Возвращаясь из инспекторской поездки по исправительно-трудовым колониям Поволжья, Владимир Николаевич Винников испытывал смешанное чувство облегчения и тревоги. Непреодолимо высокие заборы, оплетенные поверху колючей проволокой, воняющее перегаром и сапожным кремом, неумело лебезящее лагерное начальство, непрерывные застолья, устраиваемые с целью залить московскому инспектору глаза и притупить его бдительность, грязноватые заморенные зэки с их слезливыми жалобами на чинимый вертухаями беспредел и просьбами направить их дело на пересмотр – все это опостылело ему хуже горькой редьки уже в первый день командировки. Командировка длилась полторы недели, по истечении которых он просто не мог не испытывать громадного облегчения.
Ознакомительная версия.