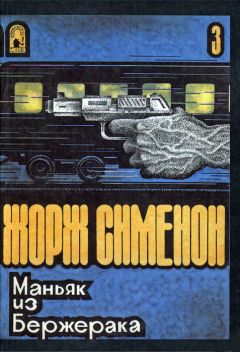Видите, мои недоумения, почему исчезло тело, обоснованны. Если бы она была только отравлена, достаточно было просто позвать врача, который, учитывая состояние здоровья Марии, констатировал бы сердечный приступ. Может быть; этот приступ должен был произойти позже, в такси, на вокзале или в поезде.
— Вы очень уверены в себе, месье Мегрэ.
— Я знаю, что произошло какое-то событие, которое заставило вашего сына выстрелить в свою жену.
Предположим, что Мария, в тот момент, когда она хотела идти за такси или, что более вероятно, в тот момент, когда она вызывала такси по телефону, почувствовала известные симптомы. Она хорошо знала вас обоих, так как прожила у вас два с половиной года. Она много читала, и я не удивился бы, если у нее были некоторые медицинские познания. Поняв, что она отравлена, она вошла в кабинет вашего мужа, где находились вы.
— Почему вы утверждаете, что я находилась там?
— Потому что она, несомненно, поняла: это сделали вы. И если бы вы были в своей комнате, она поднялась бы к вам. Не знаю, угрожала ли она вам револьвером или просто протянула руку к телефону, чтобы позвонить в полицию… Вам ничего не оставалось, как застрелить ее.
— И по-вашему, это я…
— Нет. Я вам уже сказал, что, вероятно, выстрелил ваш сын, или, если вы это предпочитаете, он довершил вашу работу.
Грязноватый свет зари уже примешивался к свету лампы. Черты их лиц казались от этого резче. Раздался телефонный звонок.
— Это вы, комиссар? Я закончил анализ. По всей вероятности, кирпичная пыль, собранная в машине, из Бильянкура.
— Можешь идти спать, малыш. Ты свободен.
Он снова встал, прошелся по комнате.
— Ваш сын, мадам Серр, решил все взять на себя.
Я не вижу способа помешать ему в этом. Если он был способен молчать в продолжение стольких часов, он будет способен молчать до конца. Если только…
— Что?
— Не знаю. Два года тому назад у меня в кабинете был такой же сильный человек, как он. После пятнадцатичасового допроса он так и не разжал зубов.
Резким движением, с каким-то бешенством он отворил окно.
— Понадобилось двадцать семь часов, чтобы его нервы сдали.
— И он сознался?
— Он все рассказал одним духом, как будто хотел свалить с себя эту тяжесть.
— Я никого не отравила.
— Я не у вас спрашиваю ответа.
— А у моего сына?
— Да. Он убежден, что вы поступили так ради него, из страха, что он останется без средств, и отчасти из ревности.
Он еле-еле сдержался, чтобы не поднять на нее руку, несмотря на ее возраст, потому что на тонких губах старухи мелькнула невольная улыбка.
— Но это неправда! — уронил он.
И, приблизившись к ней, глядя ей прямо в глаза и дыша ей в лицо, он отчеканил:
— Вы вовсе не боитесь, что он останется в нужде, вы боитесь только за себя! Вы убили совсем не из-за него, и если вы явились сюда и провели здесь всю ночь, то только потому, что вы боитесь, как бы он не рассказал всю правду.
Она попыталась отодвинуться от него, откинулась на спинку стула, потому что лицо Мегрэ, жесткое, угрожающее, все приближалось к ее лицу.
— Вам наплевать, если он сядет в тюрьму и даже если его казнят, лишь бы вы были уверены, что выйдете чистой из воды. Вы убеждены, что проживете еще много лет у себя в доме, пересчитывая свои деньги.
Она испугалась. Открыла рот, как бы для того, чтобы позвать на помощь. Вдруг Мегрэ неожиданно грубым рывком выхватил из ее старческих рук сумку, которую она судорожно сжимала.
Она вскрикнула и рванулась отнять сумку.
— Садитесь!
Он нажал серебряный замочек. На самом дне, под перчатками, под бумажником, под носовым платком и пудреницей, он нашел две белые таблетки, завернутые в бумагу.
Вокруг царило безмолвие, словно в церкви или в гроте. Мегрэ выпрямился, сел, нажал кнопку электрического звонка.
Когда дверь отворилась, он произнес, не глядя на вошедшего инспектора:
— Скажите Жанвье, чтобы он оставил его в покое.
И так как удивленный инспектор не двигался, Мегрэ добавил:
— Все. Она признается.
— Я ни в чем не признаюсь.
Он подождал, пока закроется дверь.
— Все равно что признались. Я мог бы продолжить опыт до конца, разрешить вам разговор с сыном с глазу на глаз, о чем вы у меня просили. Вы не находите, что уже достаточно трупов для одной старухи?
— Вы хотите сказать, что я бы…
Он подбросил на ладони таблетки.
— Вы бы дали ему лекарство, вернее, то, что он принял бы за свое лекарство, и говорить ему больше никогда не пришлось бы.
На гребнях крыш уже начали появляться солнечные блики. Снова зазвонил телефон.
— Комиссар Мегрэ? Говорит Речная. Мы в Бильянкуре. Водолаз только что в первый раз спустился на дно и обнаружил довольно тяжелый сундук.
— Остальное тоже найдется, — равнодушно сказал он.
В проеме двери появился измотанный и удивленный Жанвье.
— Мне сказали…
— Уведи ее в дом предварительного заключения.
Его тоже, как сообщника. Я поговорю с прокурором, как только он приедет.
Он больше не занимался ни матерью, ни сыном.
Когда он вошел в свой кабинет, зубного врача там уже не было, но из пепельницы торчали окурки очень черных сигар. Он сел в кресло и уже совсем засыпал, когда вспомнил о Долговязой.
Он нашел ее в зале ожидания, Эрнестина спала. Потряс ее за плечо. Инстинктивным жестом она поправила свою зеленую шляпку.
— Все. Можешь идти.
— Он признался?
— Это она убила.
— Как? Эта старуха…
— Потом! — проворчал он.
Но почувствовав, что он чем-то ей все-таки обязан, Мегрэ обернулся и сказал:
— Спасибо тебе! Когда Альфред вернется, посоветуй ему…
Но что ему посоветовать, он так и не досказал. Ничто не сможет излечить Унылого от его привычки грабить сейфы, прежде им же самим установленные, от его веры в то, что он делает это в последний раз и теперь-то и вправду сможет наконец поселиться в деревне.
Из-за преклонного возраста старую мадам Серр не казнили, и она покинула суд присяжных с удовлетворенным видом особы, решившей наконец навести порядок в женской тюрьме.
Когда ее сын вышел из тюрьмы Френ, где он провел два года, он прямо направился к дому на улице Ла-Ферм и в тот же вечер совершил в своем квартале прогулку, к которой он привык еще в те времена, когда ему приходилось выводить собаку. Он, как и в былые дни, заворачивал в маленький бар выпить красного вина и, прежде чем зайти туда, пугливо поглядывал направо и налево.
Одна из тюрем в Париже.
Псевдоним Феликса Турнашона (1820—1910), известного французского журналиста, открывшего в Париже первый салон художественной фотографии и достигшего в искусстве портрета высокого мастерства.