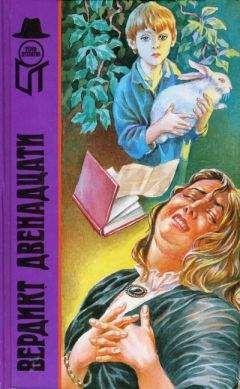«Черт, что ж это он задумал?» — спрашивал себя Бридон. Может, Бринкман, решив было облегчить душу, никак не мог начать и хватался то за одну тему, то за другую, лишь бы оттянуть страшный миг исповеди? Другого объяснения этим разговорным причудам, пожалуй, не подберешь. Надо бы его подбодрить, но как?
— Да, честно говоря, очень мало. Вот вы небось поездили с Моттрамом, а? Я думаю, богач вроде него вряд ли упустит шанс посмотреть мир. Забавно, что он решил провести отпуск в этаком захолустье.
— Наверно, у каждого из нас есть на свете любимый уголок… Смотрите, как глубоко река вгрызлась в скалу!
Они свернули на тропинку, которая шла круто вниз, к берегу, среди елей и высоких, по пояс, зарослей папоротника-орляка, и очутились в глубокой каменной ложбине с отвесными склонами, больше похожей на ущелье; высоко над головой виднелись нагромождения валунов да пучки папоротников. Узкая стенка впереди была словно пробита или вырублена в скале, футах в пяти-шести над бурлящим потоком, и пенные брызги, вскипающие на камнях и летящие во все стороны, только чудом не достигали до нее. Людского жилья не видно; рев воды заглушал голос, можно было лишь кричать; солнце, уже приближавшееся к полудню, не доставало подножия скал, и сам каньон по контрасту выглядел мрачно и жутковато.
— Пройдемте немного вперед по тропинке, — сказал Бринкман. — Впечатление куда сильнее, когда стоишь прямо посередине всего этого. Тропинка, — пояснил он, — тянется вдоль берега, обычно как раз по ней и ходят рыбачить на Долгую заводь. Я пойду первым, ладно?
Секунду Бридон помедлил. Этот человек всю дорогу отвлекал его нарочито пустым разговором и так явно стремился отвести именно сюда, что Майлс вдруг заподозрил враждебный умысел. Протянет руку: дескать, обопритесь, удобнее будет обогнуть выступ! — а сам легонько толкнет, и полетишь ты, голубчик, с тропинки прямиком в воду. Вокруг ни души, а камни и река тайну открыть не поспешат. Но отказаться невозможно — благовидный предлог с ходу не сочинишь. К тому же Бринкман чуть не на голову ниже его ростом…
— Ладно, — кивнул он, — я пойду за вами. — И мысленно добавил: «На безопасном расстоянии».
Ярдов через двадцать они остановились на площадке, где каменный карниз расширялся примерно до пяти футов. Площадку окаймляла шести-семиметровая каменная стенка, образующая опять-таки узкий карниз, новую ступеньку этой исполинской лестницы.
— Любопытно, правда, — сказал Бринкман, — каким образом эти скалы громоздятся друг на друга? Взгляните на длинный уступ вон там, справа, ведь точь-в-точь багажная полка в железнодорожном вагоне! Какой случайности он обязан своим возникновением? А может, это не случайность, а забытый след человеческой мысли?
В самом деле здорово похоже на полку в кладовой некоего беглеца, прятавшегося тут в незапамятные времена. Клочок белой бумаги — наверняка упавшая сверху обертка от сандвича — усиливал эту иллюзию.
— Да, — отозвался Бридон, — так и ждешь таблички с надписью: «Только для легких вещей». Бог ты мой, ну и местечко!
Забыв о своих опасениях, он прошел мимо Бринкмана дальше, разглядывая каньон. Бринкман медленно, почти нехотя последовал за ним. Оба шагали молча, но вот каньон кончился, и по удобной тропинке они выбрались на верхнюю дорогу.
Ну, теперь самое время для доверительных признаний! Однако, к удивлению Бридона, спутник его помрачнел и насупился; ни единая попытка начать разговор успеха не принесла, Бринкман отвечал невпопад, односложно, вдобавок таким тоном, который отбивал всякое желание затевать с ним беседу. В конце концов Бридон тоже умолк и вернулся в «Бремя зол» до крайности недовольный собой и озадаченный еще больше прежнего.
Лейланд еле дождался его возвращения. Он узнал от Анджелы, что Бридон ушел с Бринкманом на прогулку, причем инициатива исходила от Бринкмана, и выступил он с ней неожиданно и настойчиво (Анджела не забыла сообщить и об этом). Лейланду, понятно, не терпелось первым услышать о бринкмановской исповеди. До обеда было еще целых полчаса, и Бридон, следуя примеру жены, предложил посидеть на «трактирной» скамейке — там можно без помех все обсудить.
— Ну как? — спросил Лейланд. — Я и надеяться не смел, что Бринкман отреагирует так быстро. Что он сказал? Вернее, что ты сообщишь мне из его рассказа?
— Ничего. Ничего он не рассказал. Мы только прогулялись в каньон и обратно.
— Слушай, старина, ты что, темнишь? Я имею в виду, если Бринкман согласился поговорить с тобой под секретом, ради Бога, так и скажи. Я уж как-нибудь потерплю.
— Да не говорил он со мной! Все, что он там наболтал, с тем же успехом могло быть сказано при всех, хотя бы в здешней гостиной. Ни черта не понимаю.
— Ну знаешь, мне-то зачем баки вкручивать! Понятно, ты куда щепетильней меня в этих делах, но сам посуди: что за беда, если ты расскажешь мне бринкмановские откровения? Мне от этого ничуть не легче и не труднее посадить тебя на свидетельскую скамью, не говоря уже о том, что, если ты не захочешь, я ничего из тебя не вытяну. Изводить я тебя не собираюсь, выуживать сведения хитростью тоже, честное слово. Только не прикидывайся, будто тебе не больше моего известно про то, что Бринкман делал в течение последней недели.
— Что, черт подери, я должен рассказывать? Ему правду говорят, а он не верит. Сказано же, по дороге в каньон он болтал все, что в голову взбредет, а на обратном пути молчал как рыба… не мог я развязать ему язык.
— А в самом каньоне?
— Рассуждал про каньон. Прелестное утро в обществе герра Бедекера. Ей-Богу, больше ничего не было.
— Слушай, давай разберемся. Мы с тобой устроили разговор в том месте, где, как мы точно знаем, за стеной подслушивал Бринкман, и подслушивал не впервые. Я громко объявляю, что выписал, вернее запросил, ордер на арест, его арест, и что спастись от ареста можно только одним способом — покаявшись мне или тебе. Примерно через час он является к тебе, вы с миссис Бридон как раз сидите на улице и разговариваете. Он вообще не замечает миссис Бридон, но приглашает тебя на утреннюю прогулку — под явно надуманным предлогом, что покажет тебе этот свой дурацкий каньон. А потом без толку тратит час с лишним твоего и своего времени, болтая всякую чепуху насчет пейзажа. Мы что же, так это и проглотим?
— Пес с ним, придется проглотить. Для меня это такая же горькая пилюля, как и для тебя. Но видит Бог, я дал ему все возможности высказаться — была бы охота.
— Может, он решил прощупать тебя, а? Вспомни, о чем он вообще толковал?!
— О Поултни, например. Он, дескать, типичный школьный учитель и так далее. Да, еще о геологии рассуждал — о вероятном возрасте Земли, если мне память не изменяет. Спросил, бывал ли я здесь раньше и много ли мне довелось путешествовать. Вот, кажется, и все.
— А ты сам ничего не брякнул, что бы могло его спугнуть, заставить передумать?
— Да я в жизни так не осторожничал, каждое слово взвешивал.
— Ну-ну… А ты-то что думаешь насчет всего этого?
— Может, Бринкман почему-то хотел увести меня из дому и решил, что это самый надежный способ, — больше ничего мне в голову не приходит.
— Гм… может быть и так, конечно. Только зачем уводить тебя из гостиницы, тем более что он сам идет вместе с тобой?
— Не знаю. Нелепица какая-то. Ты уж прости, Лейланд, мне правда очень жаль. — Бог весть, почему Бридон чувствовал себя виноватым, хотя решительно никакой вины за ним не было. — Слушай, я скажу тебе одну вещь… хоть оно и против уговора, но, думаю, не будет беды, если я тебе скажу. Симмонс не рассчитывал на страховку. То есть сперва-то рассчитывал, но недели две назад узнал о дополнении, согласно которому все отходило епископу… по крайней мере узнал, что ему страховка не светит. Так что версия насчет Симмонса, боюсь, требует пересмотра.
— Пересмотр уже состоялся. Очень интересно: значит, ты говоришь, Симмонсу было точно известно об изменении дядюшкиных планов.
— Да. Попробуй догадаться, откуда у меня эти сведения…
— А как по-твоему, он знал, где находится новое завещание? В смысле — в Лондоне или у самого Моттрама?
— Понятия не имею. Да и не все ли равно?
— Нет, не все равно. Ладно, раз ты сыграл в открытую, я плачу тем же. Но предупреждаю: тебе моя информация не понравится, потому что она не в пользу твоей версии о самоубийстве. Ну, слушай…
Лейланд глянул по сторонам, удостоверился, что никто не подсматривает, вытащил из кармана конверт и аккуратно вытряхнул из него на ладонь бумажный треугольничек. Голубая линованная бумага, вроде бы служебного вида. Уголок, явно оставшийся от какого-то сожженного документа, судя по опаленной гипотенузе. Бумажка была исписана «конторским» почерком — иначе этот гибрид уродства и разборчивости не назовешь. Три строчки, на каждой обрывки слов и широкие пустые поля. От огня уцелел нижний правый угол, а написано на нем было вот что: