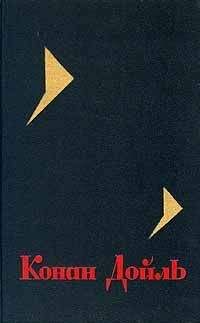ко мне с колотой раной на правой ступне! Он попросил у меня повязку, а сегодня я обнаружила у него в квартире, когда приходила проведать его мать, Руфину Ильинишну… обнаружила в комнате у Назара Захаровича гвоздь, которым он проколол ступню – я это говорю, потому что в больницах нас оповестили о приметах человека, который разыскивается по подозрению в убийстве на Головольницкой, кажется, вот я и звоню… Вы можете, пожалуйста, я не знаю, прислать для задержания или допроса Назара Захаровича наряд милиции, я вынесла улики из его квартиры – гвоздь со следами крови и проколотый ботинок, а еще заметила, что он хранит за шкафом огнестрельное оружие – ружье! Назара Захаровича сейчас нет дома, я встретила его несколько минут назад, когда он выходил из лифта – у Назара Захаровича есть автомобиль, кажется, это «Волга» ГАЗ-21, я не разбираюсь в машинах, но он рассказывал мне – светло-синяя! Пожалуйста, пришлите кого-нибудь по указанному адресу! С Назаром Захаровичем проживает его мать, которую я сейчас сопроводила до своей квартиры, я прослежу за ней, пока вас нет! Я очень сильно напугана – до приезда милиции никому не открою и запрусь на ключ! – но, пожалуйста, пусть поторопятся, я буду ждать!
Глава 13. Архат спускается с горы
Варфоломей, удобно устроившийся за столом с материалами дела – около сотни начерно исписанных листов! – и Данила дожидались в темной, плохо освещенной и пропыленной допросной комнате, когда из КПЗ приведут Нефтечалова; а через несколько минут, в сопровождении черно-белой фигуры, безмолвствующий силуэт его вырисовался в проеме – бледная анемичная кожа осунувшегося православного лица, свинцово-серые глаза и преждевременные, бархатистые седины! – вот он, Назар Захарович Нефтечалов, застреливший Ефремова.
– Назар Захарович, – обратился к нему Варфоломей.
– Да? Меня так зовут.
– Меня зовут лейтенант Ламасов, Варфоломей Владимирович, а это – следователь от прокуратуры по фамилии Крещеный.
– С Данилой Афанасьевичем я уже имел честь познакомиться.
– Присаживайтесь, – обратился к нему Крещеный.
– Будь по-вашему, – Нефтечалов опустился на скамейку.
Следующие несколько минут их голоса звучали приглушенно-невнятно в небольшом помещении, куда проникал блеклый солнечный свет, который Нефтечалов очарованно изучал мертвенно-серыми глазами; Варфоломей и Данила разъясняли права Нефтечалову, внимательно, но безучастно слушавшему их.
Когда Нефтечалову наскучило, он прервал речь следователей.
– Кхм-кхм, – покашлял он.
– У вас в горле пересохло? – спросил Варфоломей.
– Я просто хочу вернуться в камеру – мне там комфортно…
Варфоломей и Данила помолчали.
– Но я не хочу, – продолжил Нефтечалов, – осложнять вам работу и без того каторжную, несладкую. Официально я заявляю, что от присутствия адвоката отказываюсь, готов подписать все необходимые документы. В своем преступлении не раскаиваюсь, а Ефремова – я застрелил из ружья в целях самозащиты. Убивать Ефремова, подчеркиваю, я намерения не имел, а направлялся на Головольницкую, чтобы припугнуть Акстафоя.
– В одиночку направлялись? – спросил Варфоломей, – или с вами был сын Акстафоя – знаете его, мальчишку зовут Глеб.
– До того, – сказал Нефтечалов, – как я расскажу о Глебе – а я не подтверждаю, что он был со мной! – дайте мне объяснить собственные мотивы.
– Пожалуйста, – ответил Варфоломей.
– Уже примерно восемь лет я работаю слесарем – обслуживаем и ремонтируем тепловые сети, – начал Нефтечалов, – до того же, как вернуться на гражданку, я отслужил девятимесячный срок контрактником в 117-ой мотострелковой бригаде во время мерзкой, грязной русско-чеченской войны… вы, думайте о нас! О тех, что блуждают средь чужих им – без надежды на лучший исход!.. Одежда тех лет пропитана кровью, потом, грязью, из шкафа пахнет смертью и порохом, но прежде того – я был простым парнем, Назаром Захаровичем Нефтечаловым, и за мной, как и за всяким мальчишкой, свои грешки водились – не брезговал я и косячок забить, хотя теперь презираю это дело!
Нефтечалов помолчал, облизывая губы.
– …и вот я, Нефтечалов, перед вами, сижу и рассусоливаюсь, как преступник – и башка у меня посивела, и лицо мое стало худым и бесцветным, я бездетный холостяк, у меня, кроме сумасшедшей матери, не осталось родственников и друзей – но это только равнодушные и безличные факты моей биографии, и во мне самом они не пробуждают чувств, потому что я верую во Христа и святую троицу, а они учат – мирское от дьявола! – и я не могу не согласиться с ними. После войны моя жизнь стала лучше, чем до войны – я поставил себе на службу множество полезных привычек и использовал их, как оружие, а до армии я не знал, кем мне быть. Другие по-иному видели свою службу. Многие дурнели, но не я – все хорошее, что мог, я перенял и сделал частью себя, а все дурное – зарыл за бараком. Я обрел веру, я стал лучшим человеком – и те, кем я дорожил до войны… я молился за них с исступленной верой! Я верил в то, что если я сумел стать лучше – то и они сумеют! И я молился за них – молился Христу, чтобы жизнь их стала лучше.
– И что случилось потом? – спросил Крещеный.
Нефтечалов хмыкнул.
– Около месяца назад на Головольницкой случилась какая-то авария – там у них прорвало трубу на чердаке, – Нефтечалов поглядел вверх и показал пальцем, – вот такое вот пятно, во всю ширь! И меня срочно поставили руководить ремонтными работами – тогда-то оно и случилось, я увидел ту надпись на стене…
– «Акстафой, верни долг, не то худо будет?» Эту надпись? – спросил Ламасов.
– Верно – ее я и прочел, – с улыбкой ответил Нефтечалов, – и в ту же минуту у меня разум помутился – вот будто кто в меня как в воду пальцы погрузил и поворошил, – Нефтечалов поднял руку и пошевелил обескровленными пальцами с иссиня-черными ногтями, – и весь ил взбаламутился вверх, а я оттуда бегом выбежал, как из горящего дома не выбегал! А я ведь ужасы-то повидал на отпущенном мне веку – ужасы, от которых физически стынешь, холодеешь, становишься весь как привидение, все твое тепло изолируется далеко, в потустороннем мире – а сам ты мерзнешь, от одиночества, от бессилия, от покинутости, от ненужности! И тело твое – оно все просит водки, спирта, как сорокаградусный человеческий обогреватель становишься целиком. Вот почему у меня руки холодные, бескровные, анемичные, и старшее поколение мне этот изъян моего малокровного организма в укор ставило – а для них все лишь повод подшутить! Оттуда я потерял интерес всякий к рукопожатиям – а после армии, после русско-чеченской-то, потерял интерес к физической близости, стал импотентом. Но дух пробудился во мне