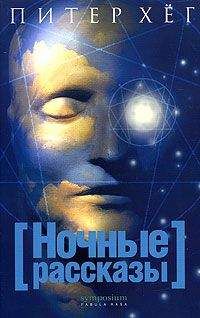— Обрати внимание, я ни о чем тебя не спрашиваю.
Жеф презирал его — Мишель был совершенно уверен.
И именно это больше всего мучило его Подобно Фершо, тот обнаружил у него неприятные черты характера. Но Фершо не демонстрировал свое презрение, а лишь становился печален.
Теперь Мишель еще лучше понял, что общего было между этими двумя людьми: оба отличались прозорливостью, холодной прозорливостью, и видели его нутро, обнаруживая вещи, которые Мишель хотел бы скрыть. И тем самым походили на его мать, которая не давала спуску, уличив сына в неблаговидных поступках.
Красный от стыда, он непременно хотел оправдаться, любой ценой завоевать уважение бывшего каторжника.
— Я уверен, вы способны хранить тайну…
— Ты так думаешь? — насмешливо спросил тот, размещая разноцветные флажки в фужерах для шампанского на полках.
— Знаете ли вы, кто такой этот, как вы его называете, старый кайман? Это Дьедонне Фершо.
На какое-то мгновение рука Жефа замерла, но ненадолго. Освободившись от трех американских флажков, он обернулся:
— Великий Фершо?
Его слова пришлись не по душе Мишелю. Величие Фершо как бы подчеркивало его собственную незначительность. Неужто его станут попрекать тем, что он дурно обошелся с таким человеком?
Жеф задумался. Мысли его витали далеко. Он словно позабыл о своем собеседнике. С его вялых губ слетело привычное для него слово:
— Вот дерьмо!
Но адресовано оно было не Мишелю, ни тем более Фершо. Даже напротив. Оно имело отношение к жизни, к судьбе.
Жеф был действительно потрясен открытием. Он машинально налил себе спиртного и залпом проглотил его, вытерев губы грязной тряпкой.
— Как же получилось, что ты с ним?
Как удалось Мишелю связать свою судьбу с великим Фершо? Вот что его интересовало.
— Я в последнее время был его секретарем во Франции. Не знаю, следили ли вы за делом?
— По газетам.
— Он ни за что не хотел уступать. Брат посоветовал ему уехать в Латинскую Америку, куда заранее перевел деньги.
Говоря так, Мишель пытался защитить себя.
— Я думаю, его гордыня…
— Ты о чем?
— Я думаю, его гордыня оказалась сильнее. Но разразилась катастрофа. Было возбуждено уголовное дело.
Брат покончил с собой. И вот однажды ночью в Дюнкерке…
— Он увез тебя с собой?
Жеф смотрел ему прямо в глаза с каким-то непонятным выражением. Похоже, в его взгляде был гнев.
— Он спросил, хочу ли я ехать с ним. Он был одинок и несчастен…
— Шутишь!
— Уверяю вас. Конечно, может показаться, что такой человек, как он… Но я знаю его, наверное, я один знаю его. Мне неизвестно, как он вел себя в Африке. Крах состарил его. Он почти умолял меня…
— Вот дерьмо! — повторил Жеф.
Ну и дерьмо же эта судьба, если она толкает такого человека, как Фершо, заискивать перед Мишелем, чтобы тот остался с ним! Жеф не стал щадить его. Он словно решил выпотрошить его до конца.
— У него еще были деньги?
Это означало, что его хотят обвинить в том, будто он последовал за патроном из корысти. Так ли все было на самом деле? Не совсем. Но ему все равно никто не поверит.
— У него осталось около пяти миллионов да бриллианты, мешочек с неограненными бриллиантами. Их украли во время переезда. Мы сели на испанское грузовое судно, направлявшееся в Карибское море. Капитан явно рылся в наших вещах. Уверен, что он…
— Во всяком случае, не ты. Дальше?
— Мы месяц прятались в Тенерифе, затем на греческом судне добрались до Рио-де-Жанейро. Как раз в тот момент начался процесс. Но судили его не за финансовые дела — таких обвинений ему не предъявляли вообще.
В суде присяжных слушалось дело об убийстве трех негров. Вы в курсе?
Жеф лишь пожал плечами. Конечно, он был в курсе!
Мог ли кто лучше него понять эту историю?
— Постепенно шумиха стихла. Враги братьев Фершо, возбудившие дело, или те, кто подталкивал колесо, добились того, чего хотели. Компании были переданы под опеку управляющего. В настоящий момент они вполне процветают. Суд присяжных, однако, не признал его права на защиту, но согласился признать смягчающие обстоятельства. Таким образом, Дьедонне Фершо приговорили заочно лишь к пяти годам каторжных работ.
На губах Жефа промелькнула улыбка. Возможно, ему вспомнилось, как он сам стоял перед судом присяжных.
— На Тенерифе мы купили подложные документы.
Отныне Фершо стал господином Луи. На его имя брат поместил крупную сумму в частном банке Монтевидео.
Вот тут-то и начались всякие неприятности.
Это было, вероятно, самое трудное время с тех пор, как Фершо бежал из Франции. В Монтевидео он думал, что без труда вступит во владение своими деньгами. Но банкиры стали чинить различные препятствия. Вмешались деловые круги. Каждый день их тешили новыми надеждами, и каждый день они сталкивались с очередными препонами.
Французское правительство не знало, где он находится, но не посчитало нужным объявить розыск. Впрочем, оно отнюдь не стремилось увидеть его снова во Франции для отбытия наказания.
— В течение многих месяцев они всячески морочили нам голову…
— Знаю я таких людей! — проворчал Жеф.
— Потом, убедившись, что Фершо стоит на своем, прибегли к другому средству.
— Еще бы!
Сделать это было нетрудно. В маленьких газетках Уругвая стали распространять слух, будто в стране скрывается осужденный французским судом человек. Два-три раза приходила полиция проверить документы обоих.
Их предупреждали. Фершо понял, что, если будет упрямиться, с ним быстро расправятся, и тогда французское правосудие будет обязано потребовать его выдачи.
Так они оказались сначала в Панаме, а потом в Колоне.
Не теряя нити разговора, Жеф лаконично спросил:
— Сколько?
— Что — сколько?
— Сколько у него осталось?
— Около миллиона. Он много потерял там. Его потрошили все — юристы, дельцы.
В кафе все стихло. Вернувшийся на кухню негр разжигал печь, и через приоткрытую дверь потянуло дымком. Машинально наполнив рюмки, Жеф подвинул одну Мишелю. Они выпили, не чокнувшись, не сказав ни слова.
— Но чего вы никогда не поймете…
Мишель снова пытался защищаться. Фершо — это Фершо, пусть так! И он необыкновенный человек, рядом с которым Жеф выглядит пигмеем.
— Я не утверждаю, что он безумен, нет…
— Продолжай.
— Но он стал настоящим маньяком. Ужасно боится оставаться один, хотя по-прежнему не терпит рядом новых лиц. Даже негру, который занимается у нас хозяйством, не разрешает ночевать в квартире. От меня требует, чтобы я был рядом с утра до вечера и с вечера до утра.
Едва я хочу выйти, как он начинает изображать сердечный приступ. Он хитер, как обезьяна. Или же заводит разговор, словно с сыном, если бы тот был у него.
Глаза Жефа по-прежнему не отрывались от него, и Мишель не знал, куда спрятать свои.
— Он болен не больше меня. Еще сто лет проживет.
— А миллион растает.
— Что?
— Я говорю — миллион растает.
— Вы думаете, что я из-за денег…
— Я ни о чем не думаю, малыш. Однако, видишь ли…
Он смолк.
— Так что — однако?
— Ничего.
Жеф предпочел промолчать. Может быть, ему еще не все было ясно. На его лице появилось то же выражение печали, которое бывало у Фершо, но не сентиментальное, а более отстраненное, беспричинное.
— Если бы я был уверен, что он действительно болен… Так нет же! Это не так. Я чувствую — он играет комедию, но не желает унизиться, чтобы прийти за мной сюда. Наверняка решил, что, заметив в доме медсестру, я тотчас примчусь к нему.
Почему Жеф даже не попытался успокоить его хоть словом? Мишель ждал от него только этого. Бельгийцу достаточно было сказать:
— Ты прав.
Или:
— Я тебя понимаю.
Но он молчал. Покачиваясь, прошелся по кафе, чтобы заглянуть в кастрюли.
Правильно ли поступил Мишель, рассказав все? Но Жеф о нем совсем забыл, и он не знал, что теперь делать.
Еще раз взглянув на себя в зеркало и поправив галстук, он пошел вверх по лестнице.
Рене вернулась не поздно, потому что пассажиров в Колоне не оказалось, а экипажи грузовых судов не заходили в «Атлантик». Набросив пеньюар, она стояла у закрытого жалюзи окна.
— О чем вы так долго разговаривали?
— Так, поболтали.
Это ее не убедило. Их долгий, смутно доносившийся разговор, напоминавший жужжание больших мух, заинтриговал ее. Ей ведь было известно, что Жеф не любит Мишеля, и она наверняка знала все, что говорили за его спиной.
— У тебя усталый вид.
— Нет.
Все вышло не так, как ему хотелось, и он был раздосадован. Но на что он рассчитывал? Прежде всякое принуждение со стороны Фершо вызывало у него одно раздражение. И он воспользовался первой же возможностью, чтобы от него освободиться. Возможно, во время их стычки в «Атлантике» он еще не отдавал себе отчета в этом. И не удержался тогда от того, чтобы не покрасоваться перед американкой и Рене. Но разве Рене, улыбаясь и, казалось, поощряя его, не стала теперь якорем спасения?