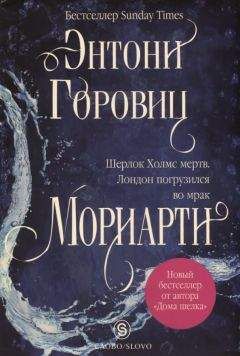— А как, по-вашему, Эльза это сделала? — невозмутимо поинтересовалась Аморель.
— Разве не ясно? Эльза была тем человеком, с кем Скотт-Дейвис намеревался встретиться, и Эльза знала, где он оставил ружье, и именно Эльза, Тейперс, была той женщиной, которая стояла и ждала за поворотом тропинки — как ты сам проницательно заметил. Вы знали об отпечатках ног, Аморель?
— Да.
— Признаюсь, одно время я думал, что следы были вашими. Размер ваших туфель в точности подошел. Потом я обнаружил, что туфли Эльзы подходят с тем же успехом.
— Да, у нас с ней одинаковый размер.
— Аморель! — вдруг вмешался я. — Я не думаю, что…
— Что?
— Да так, ничего… — слабо проговорил я. Аморель опять так сжала мою руку, что сомневаться не приходилось: она не хотела, чтобы я ее прерывал.
— Так, значит, вот как это было? — медленно проговорила Аморель. — А теперь нам троим предстоит забыть об этом, и пи единая душа больше не узнает?
— Вот именно. Завтра вынесут вердикт о смерти в результате несчастного случая, и дело будет закрыто.
— Да-а. — Я смутно видел профиль Аморель, которая сидела, устремив взгляд в темноту. — Знаете, Роджер, тихо сказала она, — и слава богу, что он мертв. Такие люди недостойны жить. По-моему, это здорово, что нашелся хоть кто-то, обладающий достаточным мужеством, чтобы это признать — и исправить…
— Согласен, — ответил Шерингэм.
Мы еще немного посидели молча. Внизу, в чаще, где Скотт-Дейвис встретил свою заслуженную смерть, жалобно заухал филин. Море вдалеке мерцало отблеском лунного света.
— Бедная Эльза, — прошептала Аморель.
Эпилог
Наконец-то моя рукопись подошла к концу.
Прошло уже три года с тех пор, как я начал с таким отчаянным упорством трудиться над ней жарким летним вечером в своей спальне в Минтон-Дипс. Причины, которые заставили меня закончить ее, очень разнятся с теми, по которым она появилась на свет. И теперь я уже могу сказать, что эта последняя совершенно не совпадает с той причиной, которую я предусмотрительно поместил в предисловии к своему рассказу.
Короче говоря, я приступил к этому повествованию исключительно ради полиции.
Когда три года назад я осознал, что подозрения полиции в связи со смертью Эрика Скотт-Дейвиса все больше и больше сосредоточиваются на мне, я постарался не поддаваться панике и сохранить голову на плечах. Я знал, что необходимо что-то срочно предпринять, и немедленно приступил к действиям. Было ясно, что инспектор Хэнкок строит свои подозрения на основании двух гипотез, обе из которых неверны. Первая заключалась в том, что у меня была самая идеальная возможность застрелить Скотт-Дейвиса, поскольку я был единственным, кто находился внизу у реки во время второго выстрела; и вторая — в том, что я единственный имел для этого мотив. Если с первой я еще мог справиться, доказав очевидный факт, что Скотт-Дейвис никак не мог быть убит вторым выстрелом, вторая гипотеза требовала к себе более тонкого подхода.
Когда расследование только начиналось, я был очень озабочен тем, чтобы никакие слухи, указывающие на кого-то другого, не достигли ушей полиции. Вскоре, однако, я понял, что это совершенно излишнее донкихотство. В конце концов, не будет никакой несправедливости по отношению к остальным, если полиция откроет для себя очевидную истину: пусть у меня и был мотив для убийства, но, в таком случае, и у каждого человека в пашей маленькой компании (за исключением разве что Эльзы Верити) тоже был свой мотив причем куда серьезнее моего. Если бы дело касалось лишь одного конкретного человека, возможно, я принял бы другое решение. Но если количество когда-либо могло оказаться преимуществом, то это был как раз такой случай. Если показать полиции, что буквально каждый был заинтересован в смерти Эрика, как она сможет выделить в качестве виновного кого-то одного? Если поодиночке мы уязвимы, то вместе мы в безопасности. Суд запутается, дело усложнится, и ничего нельзя будет ни распугать, ни доказать.
После этого я решил, что полицию нужно как можно подробнее проинформировать обо всех событиях, которые предшествовали смерти Скотт-Дейвиса, вместе со всеми подводными течениями и скрытыми интригами, которые и подскажут необходимые мотивы. Но как это сделать?
Было бы бессмысленным для меня рассказывать им что-то на словах. Любое мое заявление сразу подверглось бы сомнению как попытка отвести подозрение от себя, его бы тщательно обнюхивали и прощупывали со всех сторон, и вряд ли оно прозвучало бы по-настоящему убедительно. Мне оставался единственный путь — донести до них то, что мне известно, таким образом, чтобы они подумали, будто обнаружили это сами, как бы против моей воли. Но опять-таки, как?
Вот тут и родилась идея изложить все это в форме дневника, восстановив содержание наших разговоров, описывая каждое событие как только что произошедшее. Я знал, что за каждым моим шагом будут следить. Если спрятать рукопись так, чтобы они это заметили, её, несомненно, извлекут из тайника и внимательно прочтут. Меня забавляло, когда я писал, как якобы старался не попасться никому на глаза, пряча свою рукопись между корней кустарника, и проверял, не следили ли за мной. В действительности я сделал как раз обратное — убедился, что за мной был "хвост". Мне нетрудно было так пристроить крышку коробки, чтобы потом сразу понять, открывали её или нет. Конечно же её открывали.
Вот такова была истинная причина, побудившая меня написать первую сотню страниц этого рассказа. Когда необходимость его продолжать отпала, и мы с Аморель отбыли в несколько запоздалое свадебное путешествие справлять наш медовый месяц, я отложил рукопись — как тогда думал, навсегда. Но не в моем характере бросать на полпути то, к чему я уже приложил какие-то усилия. Наткнувшись на эту рукопись несколько месяцев спустя, я пополнил ее несколькими новыми главами, уже для собственного развлечения и в качестве умственного упражнения, и так дело продолжалось и далее. Однако я до сих пор не решил, стоит ли публиковать ее. Я нарочно изменил все имена, чтобы теперь (когда Эрик Скотт-Дейвис и его безвременная кончина порядком подзабыты) никто не смог бы узнать в моем повествовании реальных людей и событий.
Если я все же решусь, этот эпилог не будет опубликован вместе с остальной книгой. Я пишу его исключительно для собственного удовольствия, и уничтожу сразу же после того, как закончу. Такие вещи опасно хранить, но я с возрастающим волнением предвкушаю возможность увидеть изложенным на бумаге то, что намереваюсь сейчас рассказать. Если бы дело приняло другой оборот…
Эти три года стали для меня очень счастливыми. Работая бок о бок на благо Стакелея и его обитателей, мы с Аморель еще крепче привязались друг к другу, превратив в глубокое чувство тот первоначальный импульс (замешанный, без сомнения, на смеси страха и благодарности), который толкнул нас друг к другу. Положа руку на сердце не могу сказать, чтобы мои планы по превращению Аморель в настоящую леди осуществились, как я предполагал. На самом деле тс, кто знал нас обоих до и после женитьбы, утверждают, что я изменился куда больше ее. И, видимо, они правы, поскольку Аморель осталась практически той же, в то время как я… — звучит как парадокс, но это так, — чем старше я становлюсь, тем моложе себя чувствую. Мне остается только надеяться, что под благотворным влиянием Аморель этот процесс будет продолжаться бесконечно.
Как странно вспомнить, что когда-то я стоял буквально в шаге от виселицы.
Только ли благодаря Шерингэму я не сделал этот шаг? Трудно сказать. Лично я думаю, что тощее дело, которое полиции удалось выстроить против меня, было явно недостаточным для ареста, но даже если его и хватило бы, суд вряд ли вынес бы мне приговор на основании столь шатких улик. Тем не менее я благодарен судьбе, что мне не довелось проверить, насколько я близок к истине.
Еще более странно подумать, что, не сделай Джон Хилльярд того первого выстрела, подозрение так никогда и не пало бы на меня. Несомненно, именно такие случайные совпадения рушат иногда самые хитроумно спланированные преступления. Конечно же, задумывая убийство Скотт-Дейвиса, я не принял во внимание подобную возможность, она просто не пришла мне в голову.
Теперь я понимаю, что поступил слишком амбициозно, решившись застрелить Эрика. Но в то время я, должно быть, и был полон амбиций. Мне и в самом деле казалось, что моим истинным предназначением было восстановление справедливости в мире. Я был уверен в собственной непогрешимости, и меня не просто расстраивало, когда окружающие не разделяли то же мнение, я чувствовал своим долгом, подкрепленным моей добродетелью, исправить их пагубное заблуждение. Теперь-то я осознаю, что был чересчур самоуверен, но самоуверенность часто произрастает на почве преувеличенного чувства долга; и то, что это произошло в моем случае, я считаю весьма любопытным проявлением этого. Я знал, что Эрик Скотт-Дейвис за свою короткую жизнь не принес ничего, кроме несчастий всем, кому довелось с ним столкнуться; для этого мне не требовалась даже теория Джона о том, что такая жизнь не только не полезна обществу, но и положительно вредна. Я знал, что само его существование означало для многих людей не просто несчастье, а катастрофу. Очевидно, что для пользы большинства Эрика следовало исключить из списка живущих. А поскольку никто, по-видимому, не собирался взваливать на себя эту задачу, я пришел к выводу, что это мой прямой долг перед обществом.