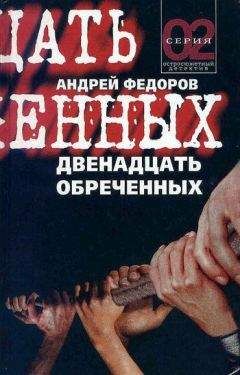Борис оглянулся, внимательно всмотрелся в лицо Роальду.
— Да правда, не знаю, — отмахнулся Роальд,
— напишем рапорта Капусте. Конечно, какие-то сведения есть, не просто с бухты-барахты мы сюда. Значит, ты считаешь, что он вроде ввел себе не то? Или дозу превысил? Или от самого диабета умер? А это как вообще-то на вскрытии определить?
— Подушкой придушили, скажем, то пух в легких будет. Пух да перья. — Магницкий задел подушку, и голова покойного шевельнулась. — Я-то почем знаю… У покойников всегда такие физии… покойные. Прям усоп во блаженстве! А одеяльце, бывало, подымешь, а там десять дырок от заточки да всякие зверства… где эти, из прокуратуры? Ждать?
— Дырки! Дырки! — слышалось на лестнице.
— Собрались! — кивнул Магницкий. — Весь дом собрался!
В прихожей столбом стояла соседка с третьего этажа, широкая, крепкая, кривоногая дама с крупным носом и голубыми глазами. Та, первая, седовласая, краснолицая соседка наполовину проникала в самую комнату. Таня же то и дело пыталась войти, и с лестницы слышались раздраженные голоса, громче всех — бас Тани:
— Щупал! Безногий! Взялся за гуж — не говори, что не дюж!
— Совсем от нее толку не будет, — кивнул в сторону лестницы Магницкий, — про бородатого в очках ведь — ничего! Это ведь не нарочно.
— Показания таких в расчет не идут, — усмехнулся Борис, — и слава аллаху. А то сажать Роальда будем. В очках и с бородой. Театрально!
— У нее вторая группа по мозгам, — сообщила соседка с носом.
— Может, сегодня мужики к нему толпой заходили, — рассуждал Магницкий, — а может, никого, кроме этой дурочки, не было? Кто скажет?
— Таня! — усмехнулся Борис, — сейчас и скажет.
— Жили, как два голубка, — сказала седовласая, — он же мужик еще молодой. Так вот, как он во дворе сидит, все он зыркает, гляжу, кто пройдет помоложе, позадастей. А Таньке он, говорили, сказки все читал, как маленькой. Да она и есть дите. Сядет на его кресло и давай кататься. А так-то — глуховатая. Если кто сегодня и был, она не скажет. Если ее разозлить, такой матерок пойдет! Такого и не услышите!
— Ты-то не слышишь, конечно! — не меняя позы и выражения (хотя на ее лице, кроме носа, вроде бы и не было ничего выражающего), проворчала носатая из прихожей. — Молчала бы! У тебя Колька…
— Сиди! Тоже мне! Сидит сама…
Фраза седовласой на этом выразительно оборвалась, и Роальд подумал в этот момент, что как раз такой выразительный обрыв фразы образует нечто невысказанно-взрывчатое, нечто словами невыразимое, от чего начинает бушевать фантазия: мол, «сидит сама» и, скажем, у младенцев уши обрезает или еще хуже.
— Спокойно, девушки! — отмахнулся Магницкий. — Колька-то где?
— Нет никакого Кольки! — отрубила седовласая. — Эта брешет, а вы…
— А Митька, например, есть? — Магницкий выпрямился. — Ну ладно. Потом соберем сведения, когда результаты будут. Чего они не подгоняют карету-то?
Желтые шторы давно развели, широко, некрасиво открыв грязное окно, беспощадным ровным светом озарив неряшливую комнату. Весна за грязными стеклами была цвета снятого молока, небо затянуто сплошь холодными, подчеркнуто-механически бегущими облаками.
— Однако книголюб, — усмехнулся Борис, — У меня-то впечатление, что Танька сильно зла на него. Она не беременная, случаем?
— Танька?! — седовласая скривила большой рот. — Да она бы того и не поняла! Ее, еще мать была жива, кастрировали. Прохиндей один, частник. Мать просила. Таньку, еще ей было годков десять, ребята изнасиловали. Вон там они жили. Я ее семейку годов двадцать знала. Отец ее, Мишка Лебедев, пил как боров. Валька, мать ее, троих родила, двое придурошные, косые. У Танюшки и брат такой. Был. Его Валька в дом для дураков сдала. Вот один у нее вроде ничего, самый старший, был, Ваня. Он сидит сейчас. Дали ему десять, что ли. Скоро освободиться должен. Сюда небось придет. Веселее нам будет. А?
Вопрос относился к носатой и был сигналом к примирению. Та равнодушно пошла на мировую:
— Да уж! Начнет дружков водить, как тогда! И так тут аж в лифтах гадят, лезут во все двери! Вы бы, начальник (это относилось к смирному участковому), его бы не прописывали, что ли. Он когда придет, Аньк?..
Покойный слушал все это.
Роальду казалось, что желтое лицо постепенно усыхает и сходит с него желтизна. Беспощадная белизна пасмурной весны, этот серовато-синий, отраженный от съежившихся сугробов и ледяного неба свет обесцвечивал выступы лица и грязной синькой скапливался в его провалах.
Нет. Этот человек не был знаком. Никогда его Роальд Васильевич не встречал, ни в снах, ни на лестницах, даже если вспомнить, что несколько лет назад не только эти, неловко, не как у живого брошенные руки (по которым, их оживляя, пробежала бледная тень от руки Магницкого), но и ноги были при нем.
Роальд подумал тут, что забыл или не знает, куда эти хирурги девают ноги и руки, отрезанные у пациентов. Хоронят?
Борис все перебирал пузырьки на столе, подносил к глазам, читал, морщась, этикетки, колкие огоньки пузырьков суетились на фоне бархатных сумерек прихожей, содержавших намеком радужный краешек зеркала, глаз, нос и мощное плечо носатой соседки.
— Смотри, — сказал Борис, — радиолюбитель.
Он зачерпнул из ящика стола и показал Роальду целую горсть розовых жучков с блестящими ножками вперемешку с уменьшенными копиями уэллсовских марсиан — черными кнопками на трех ножках.
— Сопротивления, триоды?
— Деятельный, я говорю, покойник.
Да, конечно. Все нити были где-то здесь. В морге ли, Земнухов ли погодя, но кто-то мог дать повод, и тогда все эти ящики и шкатулки, все неведомые пока закрома сорок второй квартиры Роальду предстоит изучать детально и нудно, замечая, как притупляется день ото дня естественная брезгливость и интимные детали чужой жизни становятся обыденно близкими, а исчезнувший с лица земли землянин — почти братом. Есть ли родственники? Соловьев еще не звонил из местного домоуправления, еще, наверное, не поспел и в паспортный стол.
— «Жрец»? — кивнул Борис. — Думаешь он?
Лицо на подушке окончательно посинело.
— У него образование было, — сообщила из прихожей носатая.
— Пенсия сто десять, — дополнила седовласая, — еще он штепселя собирал на дому. От фабрики. Вроде тыщ на тридцать в месяц выходило. — Она без интереса пробежала взглядом по корешкам книг. — Да у Таньки восемьдесят тыщ рублей. Так и жили как голубки. Танька его далеко иной раз таскала в коляске. Увозила вон за стадион. Она его по улицам возила. В том году за город один раз. Он-то ничего потом не говорил, а она… Два голубка. Конечно, ее чего слушать. Срамота одна. Начнет бабам во дворе делиться, как он ее… ну, он же мужик. Само собой.
— Какой мужик?! — вопросила носатая. — Что ты мелешь! Таньку-то слушать — уши вянут!
— Ну, я все закончил, — решил Магницкий, — может, им еще раз позвонить? Что-то не едет труповозка-то, девушки! Сейчас вы мне вот здесь распишитесь…
В этом только столе шесть ящиков, в тахте, когда хозяина увезут, конечно, тоже надо шарить. За книгами на полках, в самих книгах. В книгах встречаются не только купюры и фантики, там попадаются записки, письма, телефонные номера, имена прежних владельцев, иногда хранящих в памяти любопытную информацию. Щитовой паркет, так называемый «польский», — идеальное место для неглубоких тайников, внутри «коробчатых» современных дверей помещаются иногда чрезвычайно солидные предметы, в патронах пыльных пятидесятисвечовых лампочек оказываются вмонтированными кольца с бриллиантами, радиоприемники же — вообще признанные хранилища лохматых от паутины, потемневших сокровищ. Было дело — внутри старой радиолампы клад нашли. Есть еще ножки стульев (в сиденья после Ильфа с Петровым не прячут), есть кухня с запасами муки и крупы (и, дай Бог, сито для просеивания тоже есть!), с внешне совершенно девственными консервными банками. Да, есть обширное и сырое, вонючее и темное пространство — шкаф с водопроводными шиками — за унитазом. А под ванной? Да господи! Всякому известно, как ремонт или переезд — вещей вываливается столько!.. Главное, искать и найти нужно «нить», да еще нить только предполагаемую, с виду неизвестно какую…
— «Жрец», — показал подбородком Борис, — обрати внимание, книголюб!
Роальд Васильевич обернулся.
То, на что указал подбородком Борис, оказалось за спиной Роальда, и он вспомнил, что машинально отметил про себя нечто знакомое в комнате покойного, настолько знакомое, что оно тут же и потеряло вес и интереса не вызвало, словно ему обязательно только тут и полагалось быть.
На стене между полками и шторой, свернувшейся сейчас оранжевой гармошкой, низко (для безногого) висела репродукция. Большая — пожалуй, сантиметров сорок на шестьдесят.
Верно! Почти такая же, поменьше, висела у Роальда Васильевича в спальне, вызывая, кажется, сдержанное недовольство супруги Люси.