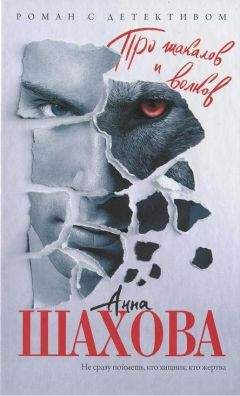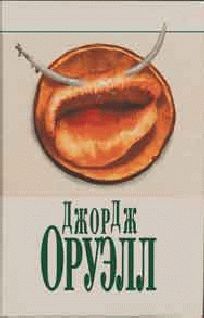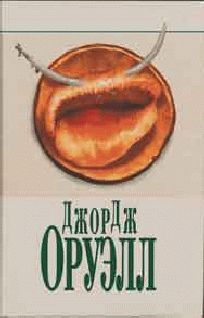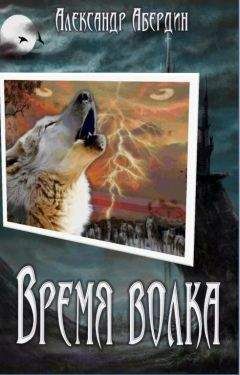— Я благодарен Марте Матвеевне Гладкой за приглашение на вечер, посвященный выдающимся русским поэтам. Но не могу не высказать своего твердого убеждения, да простят меня достопочтенные организаторы, — он кивнул в сторону Марты и ее бодигардов. — Смаковать «Мартель» и севрюгу под памятником нищего при жизни, бесприютного, истерзанного пытками и мученически убитого поэта Мандельштама, тело которого лежало без погребения три месяца у стен пересыльной тюрьмы под Владивостоком, а потом было сброшено в братскую могилу… кощунственно.
Дыков поднял голову и с силой откашлялся. После чего во дворике стало так тихо, что можно было различить веселенький мотивчик из окна прошелестевшей по соседнему переулку машины.
— Но я снимаю шляпу перед Мартой Матвеевной за то, что сегодня в центре Москвы такие разные, быть может, не близкие по духу люди слушают строки Гумилева и Мандельштама. Мне это приятно в первую очередь как учителю русской словесности, каковым я до сей поры остаюсь. К сожалению, мы очень поверхностно знаем свою литературу. И мало знаем о людях, ее создававших.
Позволю, господа, лишь одну цитату. Ахматова пишет в своем дневнике об Осипе Эмильевиче, с семьей которого была дружна. Обратите внимание на сдержанный, если не телеграфный стиль изложения, который до предела усиливает ощущение трагизма времени. У расстрельной стены, знаете ли, витийствовать не тянет. Упоминаемая Надя Мандельштам — это любимая жена поэта.
Беня достал из кармана камуфляжной куртки блокнот, задрал его над своей кудрявой головой, стал читать, делая ударение на каждом слове:
— «Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года… В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца. О пытках все говорили громко. Надя Мандельштам приехала в Ленинград. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер».
И снова повисла тягостная пауза. Гладкая выглядела растерянной, у нее горели лоб и щеки. Первые ряды силились делать отстраненные, все понимающие лица. На последних. рядах подвыпивший актер, примелькавшийся в сериалах про бандитов, в которых он органично смотрелся уркаганом, да и в жизни был парнем незатейливым и бесшабашным, негромко сказал соседке в бриллиантах:
— Отжег по полной. Сам гений, едрёныть…
Соседка отвернулась и полезла в сумочку за платочком.
Беня же, как ни в чем не бывало, продолжал:
— Я, господа, хотел прочесть стихотворение Осипа Эмильевича, но, думаю, это лучше сделает одна из прекраснейших актрис нашего театра и кино, великолепная чтица и знаток поэзии, народная артистка России Оксана Пучкова.
Раздались аплодисменты, которые немного разрядили обстановку, до предела накаленную речью «поэта и парохода», как звали Дыкова на радио.
Пучкова, поднимаясь на сцену, порывисто обняла Беню и, встав перед микрофоном, начала вдохновенно читать одно из самых известных стихотворений поэта «За гремучую доблесть…».
При словах:
«…Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей…» —
раздался оглушительный грохот: один из официантов уронил поднос с бокалами.
Килька получил тычок в спину от Весела за косорукость и мандраж.
— Пора! — сказал Первый Третьему, и Килька, переступая через осколки битого стекла, нырнул за ним в подсобное помещение в торце дома. Там уже переодевались в камуфляжные штаны и куртки Аркан и Петруччо. За ними наблюдал Николай Николаевич, успевший надеть армейские ботинки и жилет.
— Проверь оружие. — Николай Николаевич, сосредоточенный, подтянутый, протягивал Кильке «Макарова». Третий волк быстро проверил обойму и передернул затвор.
— Порядок! — сказал он, засовывая пистолет в наплечную кобуру, сжав губы и глядя вызывающе на новоявленного начальника.
— Вот это правильно, — удовлетворенно кивнул Николай Николаевич, оценив ловкость обращения «щенка» с оружием, и протянул Кильке «Калашникова».
В подсобку вошли еще три парня, которые раньше сновали по двору в костюмах половых, а теперь были экипированы так же, как и Волки.
Последней к группе захватчиков присоединилась Асенька. Она осталась в своей юбочке и блузке, только туфли на каблуках сменила на красные кеды.
— Действуем по моей команде. Четверо — на один край группы заложников, трое — на другой. Держите равный интервал. Впрочем, это вы отрабатывали, так ведь? — она переводила взгляд с Волков на «чужаков» — так их окрестил про себя Килька. Ребята были так же молоды, как и Волки, но казались крепче, спортивнее и держались гораздо развязнее: жевали резинки и сплевывали. Они явно чувствовали себя комфортнее Волков.
— Что дальше? Отец ни слова не говорил нам о таком… составе группы, и план, я вижу, меняется на глазах, — процедил Аркан, лицо которого побелело от ярости.
— Все гораздо труднее, чем предполагалось сначала, и все мы должны работать на результат. Ваш Отец все объяснит позже. Если вы не сваляете дурака. — Асенька усмехнулась. — А сценарий пока тот же. Побольше драйва, господа террористы! — она рассмеялась. Впрочем, обернувшись к сцене, стала предельно серьезной, и в ее жестах появилась хищная грация. — Счет на минуты. Предельно аттеншн!
Люша стояла у рамки и театрально заламывала руки перед охранниками:
— Там племянник мой, и с ним может случиться приступ, если не передам лекарство. Это срочно!
— Мадам, — благодушно отвечал амбал в костюме и галстуке, — об этом не может быть речи. Давайте лекарство, я сам передам. Впрочем, сейчас проконсультируюсь… — мужчина заговорил что-то в неприметный микрофон. Лицо его вдруг вытянулось, он испуганно сказал: — Есть! — и резко повернулся к Люше, которой и след простыл…
— Что за баба?! К кому она?! И каким образом вы упустили Димитриева?! — наушник Николая Николаевича едва не взрывался от негодующего голоса Трунова.
— Павел Павлович, баба — пустое. Наверняка воздыхательница Крофта с автографом. А Димитриева из туалета выудим за минуту.
— А ты уверен, что он в сортире?!
— Ну а где ему быть? Публичности господин не любит… — мямлил рыжеусый толстяк.
— Чтобы через минуту он был на исходной позиции вместе со всей этой шушерой! — взревел Пал-Пал.
Он стоял в комнате связи рядом с невозмутимым юнцом-компьютерщиком. Мальчишка, который до того сидел на прослушке, был брошен на самый ответственный отныне участок — во двор.
— Что в пустой монитор уставился?! — излил остатки раздражения на надменного сопляка телохранитель Гладкой. — Твое дело теперь — камеры! Отслеживай этого сыскаря. Он, я чувствую, еще преподнесет нам нечаянную радость.
Пал-Пал переключил внимание на микрофон, незаметно подколотый к воротничку сорочки:
— Рамка, слушайте меня! Освобождаем улицу от машин и людей. Церемонии отставить, действуем по крайнему сценарию! — Тут Грунов перешел на английский: — Крыша, готовы?! Предельное внимание! Я надеюсь, ребята, на вас.
— Порядок, Пал-Пал. Ждем объекты, действуем, как только фигуры замрут, — ответил хрипловатый голос невидимого собеседника по-английски.
— И море успокоится, — пробормотал Грунов и стал напряженно смотреть в камеру, фиксирующую центр двора.
Люша дала деру, поняв, что ее разоблачат через считаные минуты. Она свернула в ближайший переулок от улицы Замазина и пошла вдоль стены, огораживавшей институтскую территорию, высматривая лазейку. Нет! Ни единого шанса проникнуть на вечер не представлялось! «Не судьба. И я очень старалась…» — вздохнула сыщица, решив вернуться к машине и ехать домой.
— Че, не пускают буржуи на свои ассамблеи? — раздался старческий голос от подъезда монументального дома, стоящего напротив института. Люша обернулась на деда, сидящего на лавочке. Видимо, абориген разживался одежонкой у родных и знакомых, потому что наряд его был, мягко говоря, эклектичен. На голове — вязаная женская шапочка в красно-белую полоску, на ногах — знаковые для молодежи ботинки «мартинсы», донельзя потрепанные, на плечи накинута синяя пашмина — выцветшая, но вроде целая.
— Не пускают… — улыбнулась ему сыщица.
— А что, очень хочется приобщиться? Поэзию любишь? — хитро прищурился дед.
— Мне надо! Очень надо, дедушка. Правда, — горячо заверила Люша.
Дед встал и подошел к ней. Он оказался одного роста с маленькой Шатовой. Глаза его буравили ее лицо, но старичок выглядел безобидным и вполне доброжелательным.
— Вообще — это плевое дело, — сказал он тихо, продолжая изучать Юлю.
— Так помогите! — всплеснула она руками.
— А дай мне свой шарфик, — дед склонил голову к плечу и облизнул тонкие губы.
— Красный в клеточку? — хмыкнула Люша.
— Вот аккурат к моему жилету! Ну, жалко для выручившего тебя старика? Какой-то тряпки жалко? — заклянчил он.
— Да ничуть не жалко! Берите! — Люша сняла шарфик и с улыбкой протянула его моднику.