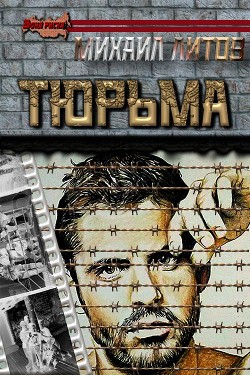Только одна сторона улицы, та, на которой жил судья, была застроена домами, в семь и больше этажей, на другой же тянулись какие-то колючие на вид заросли, мелкие сады и рощицы, а тропинки в конце концов выводили к узкой и причудливо петляющей речушке. Туда и направился Игорь Петрович. Русло уже освободилось ото льда, и Игорь Петрович, моментально освоившись в поэзии, тихо остановился, наблюдая за стремительно несущимся потоком и время от времени переводя взгляд на противоположный берег, где ему открывалась гладкая как скатерть и унылая местность.
Игорь Петрович был натуралистом разве что в подходе к исследованию человеческих душ, а что касается природы, то он, например, всегда весьма простодушно гадал, почему берег, на котором стоял его дом, холмистый и покрыт буйной растительностью, а противоположный в любое время года выглядит лысым и до неправдоподобия ровным. И, выходя на берег речушки, он всякий раз с какой-то даже жесткой, готовой ожесточенно ножками топотать пылкостью удивлялся этому контрасту и пытался разгадать его тайну. Между прочим, за долгие годы сознательной жизни и верного служения Фемиде Игорь Петрович великое множество оступившихся людей отправил в места, где им никак не взбрело бы на ум решать задачки, какие на досуге решал этот суровый и, разумеется, справедливый человек.
Домой судья возвращался уже в сумерках. Медленно, заложив руки за спину, он шагал по еще мягкой после недавно сошедшего снега тропинке, спускался с одного холмика и тут же с замечательной для его почтенного возраста легкостью поднимался на другой. Какая-то темная птица пролетела низко, почти коснувшись его шляпы, вскрикнула, и в этот момент из зарослей на верху холма выдвинулась парочка и стала быстро спускаться навстречу одинокому путнику, каковым вдруг ощутил себя, в некоторой степени бедственно, Игорь Петрович.
Состарившись, он, завидев красивую женщину, тотчас ощущал свой возраст как некое смешное недоразумение. Игорь Петрович был семейным человеком, в общем, мирно и правильно ютился под одной крышей с женой и взрослой дочерью, но это тянулось уже так долго, что стало чем-то вроде обычая, изменить который мешала сила инерции, а еще и жалкое неумение дочери устроить собственную личную жизнь. А вот нацель на него молодая красивая женщина лукавый и колдующий интерес, и судья, ей-богу, повел бы себя как желторотый восторженный мальчишка. На улицах он иной раз как бы по рассеянности усмехался разным юным красавицам, по его тонким губам едва уловимо для окружающих, но вполне ощутимо для него самого скользила блудливая ухмылка. Конечно, ему случалось отправлять в места не столь отдаленные красивых и даже очень красивых женщин, и его железная неподкупная принципиальность не делала для них никаких исключений. Восседая на троне вершителя правосудия, Игорь Петрович не улыбался красотке, с несчастным видом сжавшейся на скамье подсудимых. Улыбка пряталась глубоко в его душе; он выносил приговор, и его душа сияла.
Так вот, сомневаться, что приближается, энергично работая крепенькими ножками, женщина великолепная — сущий экземпляр, единственный в своем роде! — было нечего. Однако воодушевления и окрыления на этот раз не произошло. Все красивые женщины кокетки, но… не сейчас, не тот случай, тут что-то другое, поразмыслил Игорь Петрович под пробегающий по спине холодок. Он начал подрагивать, а проворная дамочка, молодая и красивая, тем временем спускалась с холма, и на ней было черное пальто, черные сапожки, ее длинные черные волосы разметались по плечам, свою прелестную головку она несла с необыкновенным достоинством. Южный тип, латинский, должно быть, из Рима, смутно и не вполне уверенно, без какой-либо определенной цели определил судья. Ее сопровождал мужчина, возможно, просто какой-то паренек, юркий и незначительный, готовый быть на подхвате; он оказался в тени женщины, словно бы в тени самой ее красоты, и разглядеть, должным образом осознать его присутствие было трудно. Стремительное приближение этих двоих и серьезные взгляды, которые они, в особенности женщина, бросали на Игоря Петровича, навевали тревогу, наводили на подозрение, что эти люди появились неспроста, и вышло этого достаточно, чтобы судья не посмел предаться своим старческим мечтам. Не без трепета огляделся он по сторонам.
Место на редкость пустынное, помощи ждать неоткуда. Кричи — никого не дозовешься. Но какое же зло может причинить ему молодая, красивая и, безусловно, малосильная женщина, и какую опасность способна она представлять для него? Игорь Петрович все же усмехнулся, подарил улыбку, но не красоте незнакомки, а собственным неожиданным страхам, совершенно беспричинным и нелепым.
Внезапно молодой человек, с явной намеренностью, или даже, пожалуй, злонамеренностью, опередив немного свою спутницу, очутился прямо перед судьей и в мгновение ока обрел значительность. Старик невольно отшатнулся. В быстро сгущающейся темноте лицо воспрянувшего молодца показалось ему грозно высунувшимся из какой-то гранитного вида глыбы; окаменелость была устрашающая, жуткая, и обмануться фальшиво, подтасовочно кроившимся, как бы между делом, намеком на красиво запечатленную человечность старик не мог. Покоя ему не осталось, тем более что в него впился взгляд больших, а скорее, нехорошо, безумно вытаращенных глаз, блестевших, посверкивавших, как фонари. Старый судья, пораженный этим безумным блеском, попятился, более того, он и вовсе кинулся бы прочь, всецело побуждаемый к этому внезапно пронзившей его недра дрожью, но молодой человек еще не сказал и не сделал ничего такого, чтобы можно было не заботясь о своей репутации удариться в бега.
— Судья! Конец тебе, конец, козел, крышка тебе, крючок судейский! — прокричала очаровательная незнакомка из-за широкой спины мужчины.
Игорь Петрович увидел ее тонкий и нежный профиль над плечом молодого человека. Округлившиеся губы послали вопль, казалось, небу, а вовсе не судье, хотя тот был назван так громко и отчетливо, что отнюдь не мог посчитать, будто ослышался. Он не был силен в древнегреческой трагедии, особенно в том, чтобы хоть как-то не впустую понимать писания Эсхила или Еврипида, но почувствовал, атмосфера, в которой раздался крик молодой женщины, — оттуда.
Молниеносные удары дрожи слоили нутро, и словно бы какие-то куски и ошметки, отскакивая, бились изнутри в грудь, распирали ее, она же, как будто из противоречия, вминалась под внешним давлением, а под взглядом мужчины и выкриками женщины даже ощущала себя, с некоторой сознательностью, инстинктивной осмысленностью, уже впалой и бесконечно слабой. Конец? Игорь Петрович прижал к груди руки, его брови удивленно вскинулись, поползли вверх и достигли, окончательно пожирая полоску лба, смычки с глубоко посаженной шляпой. И тут произошла странная, в некотором роде чудовищная вещь: старый, испытанный, закаленный в жестоких боях с преступностью судья неожиданно тонким, просительным и чуточку даже обиженным голосом воскликнул:
— Я не судья! Вы ошиблись!
— В таком случае надо разобраться… — произнес мужчина озабоченно.
Игорь Петрович бормотал, слепо тычась в грудь заколебавшегося оппонента:
— Врете вы все, не судья я, не судья… Да что вы такое придумали… какой я вам судья!.. Не наводите, ради Бога, тень на плетень…
— Не в чем тут разбираться, судья он, мне ли не знать! — твердо и яростно подала голос женщина.
— Ну, тогда все ясно, — определился мужчина, не слишком, однако, уверенно.
Рассказывали еще потом, что судья, и сам уже переставший понимать, кто он в действительности, якобы рухнул, ползал по земле, простирал руки, стараясь дотянуться до сапог красавицы и тем вдруг переменить ее воззрения на него. Но примешивать слухи и домыслы к картине истинного положения вещей, и без того удручающей, — последнее дело. Внезапным отрицанием судейского статуса Игорь Петрович думал поправить свое положение, незавидное и проигрышное ввиду превосходящих сил противника. Смертельным холодом повеяло на него. Он вздумал несколько необычайно побороться за жизнь, а стало быть, отчего же и не соврать? Мелькнула отвлеченная мысль, что он, прогуливающийся по живописным окрестностям города Смирновска, и впрямь не столько судья, сколько обыкновенный отдыхающий. Тут самое время разъяснить, что набросок гибели Игоря Петровича можно было бы создать двумя-тремя крепкими мазками и штрихами, не возясь в чем-то сумбурном, сомнительном и даже слишком человеческом. Но сильно мешает тот факт, что эта гибель очень скоро обросла невесть как, из чего и зачем возникшими выдумками и получила статус легендарной. Перед нами словно эпопея, что мгновенно наводит на соображение: много званных, да мало избранных, — и, как видим, уже не один человек, а некое множество мечется в поисках утраченного времени, теснится в призрачных, по сути, границах пустословия и словоблудия, обрекая нас на унылый труд отмежевания и отбрасывания плевел.