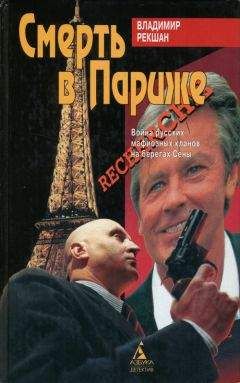Я же просто шел в сторону площади Республики и наслаждался солнечным декабрем.
Бульвар Севастополь большой, как Черное море. Никакой выгоды от победы в Крымской войне, кроме бульвара, Франция не получила. Россия же стала на Льва Толстого больше. Русские, турки, англичане, французы, еще итальянцы, кажется, бились за Севастополь. Хохлы его теперь вместе с нашими костями задаром зацапали…
Ориентируясь по солнцу, я продвигался в сторону реки, но искать просто так набережную можно две недели, и поэтому, обнаружив по пути ступеньки, ведущие в метро, я сбежал вниз и, помахав руками, объяснил все-таки усталой билетерше свое желание. Она протянула мне в окошко карту города, сложенную гармошкой, а я побежал обратно на бульвар с картой, намереваясь в ближайшие пару часов найти заветную набережную со шхуной Габриловича. Удобнее б было подъехать на метро, но на билет денег не осталось.
Я зашел в сквер, сел на скамеечку и развернул карту. Время ланча давно миновало, но напротив меня сидел мужчина средних лет с погасшим взором и жевал длинную булку с какой-то вкуснятиной внутри.
…Смотреть не надо. Опять хочется есть. Какое-то рабство, а не жизнь. Все время надо что-то жевать. Всего несколько часов без жевания — и жизнь становится в тягость. Проклятая желудочно-кишечная жизнь. Поэтому люди друг друга и мочат без остановки, поскольку едят без остановки и трахаются без остановки неизвестно зачем… Тигры, те сожрут барана и неделю кочумают. И удавы вместе с кроликами. Съел — и месяц нет проблем. Не жрут столько, поэтому и не трахаются. А поскольку не трахаются, постольку и не убивают…
Стараясь отвлечь себя абстрактными мыслями, я искал на карте нужную набережную. Искал долго. Буквы оказались маленькие. Да и начал я исследовать карту с пригородов, с Булон-Белланкура. Там тоже текла река Сена и имелась Сталинградская набережная. Но не было Вольтера… Я его обнаружил в центре. Да и не просто в центре, а чуть ли не напротив Лувра. Так лучше, чем в какой-нибудь Белланкур пешком топать, лучше и ближе идти к Лувру. Русские миллиарды и должны вертеться где-то возле Моны Лизы. В будущем добрые французы выделят сотню метров, потеснят Вольтера и назовут набережную набережной Русских Баксов…
Бульвар пересекал улицу Риволи, и я свернул на нее, чтобы добраться до Лувра. До него было рукой подать. Светло-коричневые стены дворца, выходящие на улицу, казались маловыразительными. Я пересек Риволи и проследовал за группой туристов с картами в руках. В наступающих сумерках загорелись прожекторы подсветки, и я стал себя корить за постоянные приступы мизантропии. Красота Лувра — она неописуема! Даже с непонятной модернистской стеклянной конструкцией во дворе! То, что у меня денег оставалось только на полбатона, и то, что я жопу себе, похоже, отморозил, ночуя на могиле Джима, и то, что я убил вчера одного, поскольку мне заказали двоих, и тэ дэ, и тэ дэ… Это все мои проблемы. Лувр тут ни при чем.
Стараясь не раскиснуть от чужой красоты, я прошел двор насквозь и оказался возле стен дворца, выходящих на реку. Перейдя проезжую часть, я подошел к парапету и посмотрел вниз. Внизу текла река. От наступавшей темноты ее зимняя тяжесть становилась убедительной. Желтоватая днем, Сена отливала теперь стальным, как у ствола, цветом. Опять проплыл сияющий корабль все с теми же японцами… Я посмотрел на противоположную сторону. Веселые огоньки вечерних машин делали пейзаж радостным. Следовало перейти мост и свернуть направо. Где-то там Вольтер и шхуна Габриловича…
Перешел мост без приключений. Можно спуститься к реке, но там мне не найти названий. Таблички с буквами у них висят на домах. Дождавшись зеленого света, я перебежал мостовую и пошел вдоль домов, читая все, что мог прочитать.
По ту сторону махина дворца закончилась, и к саду Тюильри — а может, и не Тюильри! — вел мост. В сотне метров за первым мостом находился второй. Судя по карте, между мостами на левом берегу Сены и находилась набережная Вольтера. Прямо передо мной с перекрестка к Сене стройными и дисциплинированными шеренгами сворачивали машины, а я стоял в вечерней толкучке и радовался тому, что в Париже столько жителей и туристов, в толпе которых нет никому до меня дела; если и есть, то фиг меня в ней найдешь. Человек пятнадцать ждали зеленого света, и каждый — бабушки, чиновник, американец с трубкой во рту, кудрявая студентка, кожаный юноша на роликах — держали в руке по свежему батону-багету. А я вот свой съел. Хлеб по-французски — лё пэн. Ле Пэн — это такой ихний националист, вроде Жириновского. А у меня в Париже не было ни хлеба, ни родины… За спиной в стеклянном аквариуме ресторана за столиками сидели парочки и жевали, глядя друг на друга…
Загорелся зеленый свет, и, чтобы оторваться от жующих, я перебежал через проезжую часть. Посмотрел на ближайшую стену и увидел синюю табличку с белыми буквами: «Quai de Voltaire». Вот она, искомая суша. Опять пришлось ждать зеленого огонька. Перебежал и остановился у парапета. Вокруг меня, несмотря на вечер, пытались торговать укутанные в шарфы букинисты. Всякие потрепанные карты, елейные открытки и номера «Плейбоя» прошлых лет, сиськи которых уже давно отвисли вместе с животами, а на ногах красоток увядание, поди, уж сплело венозные узоры.
Сумка натерла плечо, и я просунул голову под ремень. Позвоночнику стало легче, да и валить, если что, от мсье Габриловича будет удобнее. Чуть в стороне широкая лестница спускалась почти к самой воде, и, мысленно перекрестясь, я стал спускаться. Через некоторое время очутился на нижней, если так правильно сказать, набережной, куда почти не долетал свет домов и улиц. Река опухла от дождей. Кромку камней от Сены отделял всего лишь свободный метр, который, судя по всему, река могла проглотить запросто за несколько дождливых дней. Но я не собирался оставаться здесь так долго, а стал крутить головой, надеясь увидеть какой-нибудь корабль, судно, баржу, способную оказаться той самой «Маргаритой». Единственное, что я увидел на короткой набережной Вольтера, — это парочка немытых бомжей-клошаров. Они сидели чинно на скамеечке и дули вино прямо из горлышек больших, как пионерские горны, бутылок. Каждый из них держал в руке по барабанной палочке батона-багета. Казалось, сейчас они затрубят спуск красного флага и забарабанят отбой.
Пофигу мне Сена и клошары, как и пионерское детство! Я пошел по течению реки и скоро оказался под мостом. Тут пахло мочой и разложением. За теменью тоннеля начиналась набережная, но с другим названием. Не помню и не важно каким. Важно другое — здесь стояли, один за другим, всякие суда. На корпусе первого я прочел: «L'ecole». L'ecole — это школа. Школа мне не нужна. За школой стояла баржа, на которой вроде бы должны уголь и бревна перевозить, или пленных, или еще что-нибудь в том же духе. Но на борту возле узенького трапа возились две вполне почтенные дамы, и возились они с цветами, фикусами, странными микропальмами, торчащими из больших кадушек. Кадушками этими оказалась заставлена вся палуба, и, видимо, здесь происходило что-то цветочное. Цветы мне пофигу.
Туда-сюда по реке проплывали корабли с туристами, и тогда от их освещенных объемов начинали по проснувшейся набережной бегать тени. Когда туристы уплыли, я пошел дальше. Следующее судно, напоминавшее чем-то малого охотника за подлодками времен прошлой войны, казалось вымершим. Трап, перекинутый с берега на борт, намекал на связь корабля с жизнью. Но ни единого света в окошках и иллюминаторах. Серое, стальное молчание. Я подошел к канату, крепившему нос «охотника» к набережной, и сощурился, напрягая зрение. Наверху, дождавшись зеленого света, покатили парижские тачки, и стало чуть-чуть светлее. В общем-то оставалось довольно темно, но мне удалось прочитать на борту «охотника» слово, состоящее из золотистых букв: «Marguerite».
— …Если ваш Бог другой, то, значит, это не Бог. Если боги не похожи друг на друга — это не боги. Бог — это все, сынок. И ты — тоже Бог. Надо только это узнать.
— А как же война, Учитель? Убитые дети? Кто же убивает богов? Я не могу понять, Учитель.
— Потому что Бог смертен. И это радость Бога. Бессмертные невыносимы.
— Но я не хочу быть богом. Я хочу жить.
— Значит, ты еще не надоел миру.
— Стоит согласиться, Учитель.
— Соглашайся, сынок. А теперь помолимся.
— Но кому молиться, Учитель?
— Себе, сынок, себе.
Старик сидел скрестив ноги. На нем была надета ослепительно белая рубаха. Так одевались когда-то русские моряки перед смертельным боем. Старик закрыл глаза и стал неслышно шептать слова молитвы. И я стал молиться себе. Посреди молитвы от гор долетел рокочущий гул. Это наши напалмом выжигали ущелье. И боги умирали.
Я уже несколько часов сидел на набережной.
— Хорошо, — сказал хмуро, — вот передо мной поганое корыто. Ни единого огня на нем не видно. Никого на «Маргарите» нет и, возможно, не будет. Сколько мне еще здесь сидеть?