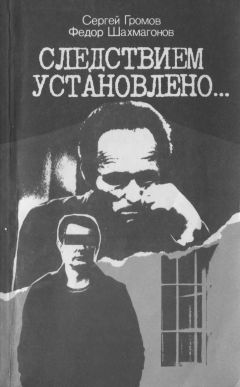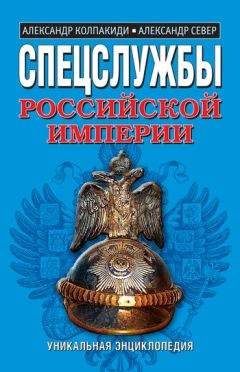— А здесь, на фабрике, что-нибудь подобное замечалось? Вот некоторые говорят, что он давно ее ревновал.
— Я этого не замечал… Мы тут все как в одной горсти собраны, если бы что-нибудь случилось подобное, это, как огонь по сухой траве, разбежалось бы…
— Хоть какая-то доля правды могла быть в этом письме?
Председатель профкома задумался.
— Да как сказать? Я удивился, что он мне его показал. Человек он нелюдимый, неразговорчивый, друзей у него не было, а я никак не принадлежал к доверенным его лицам. Это выглядело как бы жалобой, упреком мне, что вот, дескать, путевкой внес раздор в его семейную жизнь. Что я мог ему сказать? Личная жизнь — сфера особая… Посоветовал взять за свой счет отпуск и съездить в Сочи, поглядеть на месте, коли уж сомнения одолели. Отказался! Нельзя, говорит, мне туда ехать… Теперь понятно, почему отказался. Боялся, видимо, что там стрельбу откроет.
— Вы кому-нибудь рассказывали об этих письмах? — спросил Осокин.
— Я не рассказывал. Он сам рассказывал. Поспрашивайте вахтера Семушкина…
Вахтер Семушкин показал, что однажды, когда он находился в кабинете коменданта, почтальон принес туда письмо. Комендант повертел конверт, пожал плечами и сказал: «Из Сочи кто-то пишет… Вроде бы и некому».
Вахтер высказал предположение, что письмо от жены. Комендант ответил, что не ее почерк, и распечатал письмо. Тут же, при вахтере, начал читать. Прочитал наполовину, грохнул по столу кулаком. Вахтер уверял, что воспроизводит его слова дословно: «Убить ее, что ли, а, суку?»
Вахтер воспроизвел и весь последующий диалог.
Комендант спросил:
— Скажи, Матвей, если бы ты узнал, что твоя жена с мужиками путается, что бы ты сделал?
Семушкин был немолод, было ему за шестьдесят. Будто бы он в ответ посмеялся:
— Порадовался бы за старушку, что в этакие годы успехом пользуется…
— Э-э-э, оставь! — ответил комендант. — Твоей жене шестьдесят, моей тридцать!
На это Семушкин ему ответил:
— Не женился бы на молоденькой! На девках-то парням жениться, а нам надобно понимать свой резон.
Осокину удалось установить, что Охрименко показывал письма и кое-кому еще. Сдержанный человек, нелюдим — и вдруг так разговорился. Стало быть, взбудоражили его письма, взбудоражили основательно. Жена вернулась, и тут же прогремели выстрелы.
Собственно, после показаний тех, кому Охрименко показывал письма, с кем делился своими переживаниями, допросы можно было прекратить. Ревности никакая другая версия не противопоставлялась.
И хотя Лотинцева очень волновала третья пуля, в ней, по всей видимости, нужда отпадала. Оставалось получить акт о смерти Охрименко, а для этого выехать в Рязань.
Осокин несколько раз в течение дня пытался дозвониться до областной больницы, но это ему не удавалось, связь с областным городом была повреждена. Тогда Осокин позвонил Пухову, попросил связаться с областной больницей и узнать, когда можно приехать за актом вскрытия.
Осокин укладывал вещи в Доме приезжих, собираясь в Рязань, к нему прибежал участковый инспектор.
— К телефону вас! Из прокуратуры… Срочно!
— Что там стряслось? — спросил Осокин.
— Срочно! Больше мне ничего не сказали…
На проводе почему-то оказался Лотинцев.
— Жив твой подопечный, — объяснил он Осокину. — И благополучен к тому же! Хоть сейчас допрашивай!
— Не может быть! — вырвалось у Осокина. Он знал, что за Лотинцевым водилась любовь к розыгрышам.
— Вот тебе и урок, Виталий Серафимович! — ответил поучающим тоном Лотинцев. — В нашем деле все может быть, даже и невероятное! Скользящее ранение! Так говорит хирург… С перепугу твой Егорушка не разглядел! Будь и ты осторожен, не прогляди чего!
На фабричной машине Осокина отвезли до ближайшей автобусной остановки, где он сел на первый же проходящий автобус на Рязань.
Нс так-то и далеко до Рязани, километров семьдесят но лесная дорога вьется зигзагами, обходя болота. На крутых поворотах автобус снижал скорость и тревожно гудел.
И хотя по дороге встречались села и деревни, край выглядел безлюдным. Леса, леса, лишь иногда сквозь порубку на мгновение открывалось поле с загустевшими озимыми, но выглядели они не ярко, будто бы побледнели на зыбучих песках.
Не очень-то походишь здесь по лесу в конце мая без накомарника, пожалуй, убежишь без оглядки. И чего прикипел прокурор Русанов к Мещере? Любит он эти леса и болота. И вдруг ожег вопрос: а чего Охрименко из Ашхабада в этакую болотную глушь? Жену, что ли, прятал от больших городов? С чего бы сюда, а не к себе в Белоруссию, в светлые веселые города?
Осокин приехал в Рязань уже в девятом часу вечера. Допрос отложил до утра, но у дежурного врача поинтересовался состоянием раненого. Ему ответили, что самочувствие у гражданина Охрименко нормальное, что никаких ограничений для общения нет.
Вот тебе и рана в грудь навылет. Едва дождался утра и поспешил к главному врачу, который и делал операцию. Он принял Осокина в своем служебном кабинете.
— Не повредит больному допрос? — все же спросил Осокин.
— Я уже объяснял своему коллеге доктору Пухову, что ему ничто не повредит.
Врач взглянул на Осокина поверх очков с любопытством.
— Что там произошло? Больной нам не пожелал объяснить природу ранения…
— Покушался на самоубийство! — ответил Осокин.
— Самоубийство?! — воскликнул в удивлении врач. — Вот уж не подумал бы! Скорее, можно предположить, что кто-то в него стрелял, а он пытался отстранить пистолет. Шла борьба… Рана носит и следы порохового ожога… Но она нисколько не опасна!
— Разве ранение не сквозное? — в свою очередь удивился Осокин.
— Это как считать! Кожа на груди и его левом боку действительно прострелена, а вот пулю я обнаружил у него в ладони. Почему я и подумал о какой-то борьбе. Был он к тому же пьян, а с пьяными чего только не приключается…
— Как же пуля оказалась в левой ладони?
— Она прошла по касательной, оцарапала ребро… Он, видимо, каким-то образом защищался и подставил под пулю левую руку.
— Он не защищался, а пытался покончить с собой, а перед этим убил жену.
Врач развел руками.
— Эту загадку вам отгадывать. Одежда его у нас, вы можете ее осмотреть. Пуля — вот она…
Врач достал из стола спичечную коробку и подвинул ее к Осокину.
— Документы в бумажнике, — продолжал он, — а в заднем кармане мы нашли три конверта с письмами. Естественно, что письма мы не читали — это ваше право…
Осокин оглядел пульку и машинально взглянул на конверты. Сочинский почтовый штемпель. «Так вот они, те самые письма!» Конверты сложены вдвое, потерты. Осокин спросил:
— Можно у вас в кабинете прочесть?
— Пожалуйста, а позже, если вам понадобится уединиться, мой кабинет всегда к вашим услугам!
Первое письмо, судя по отдельным выражениям, было написано будто бы московским инженером. Он писал, что отдыхал в санатории одновременно с женой Охрименко. Мужская, дескать, солидарность побудила его узнать адрес и известить мужа о «художествах» его жены. От этакой «солидарности» Осокину стало не по себе. Подленькое письмо и достаточно грубое. Резануло выражение: «Перевалялась чуть ли не со всеми…»
Из второго письма нельзя было понять, кто автор, какое занимает место в жизни. Злобен и подл он был не менее первого. Второе письмо как бы подтверждало первое, кое-что добавляло и нового.
Третье письмо от какой-то женщины. Подписано, даже с обратным адресом. Оно выглядело несколько игриво. Содержало насмешки над неудачливым мужем и пожелание утешиться, с явным намеком, что именно она, «доброжелательная москвичка», готова выступить в роли утешительницы.
— Ну как? — спросил врач. — Что-нибудь разъясняют эти письма?
Осокин вздохнул и раздумчиво произнес:
— Пожалуй, все ставят на место! От таких писем жить не захочется. Даже мне было горько их читать.
Для Осокина встреча с Охрименко — это первый в жизни серьезный допрос преступника, ибо никакой вспышкой ревности невозможно оправдать жестокое убийство женщины, даже если бы в письмах содержалась правда.
Осокин много читал об убийствах, слушал лекции, но с убийцей встречался впервые.
Там, в Сорочинке, у некоторых свидетелей, которые считали, что Охрименко действительно покончил с собой, прозвучало что-то похожее на сочувствие: «Что же это он учинил над собой?» Это сочувствие к человеческой трагедии слегка задело тогда и Осокина: комендант смертью как бы искупал вину. После разговора с врачом всякая тень сочувствия исчезла, хотя рассуждения врача и не убедили Осокина в обратном: попытка Охрименко покончить с собой все еще казалась реальностью.
Ему со студенческой скамьи запомнился рассказ одного из старейших следователей Прокуратуры Союза ССР на встрече со студентами. Следователь рассказал об одном из своих дел, связанных тоже с самоубийством. Человек стрелял из пистолета в висок. Выстрелил, а пуля, ударившись о кость, не пробила ее, а рикошетом обошла вокруг черепа, прошила кожу, как иголкой. Патрон оказался с подмокшим порохом, удар пули был слабым. Бельгийский браунинг, из которого стрелял комендант, из трофейных, патроны военного времени, оружие не из надежных. Желание покончить с собой могло быть вполне искренним. А что еще и оставалось после совершенного им преступления?