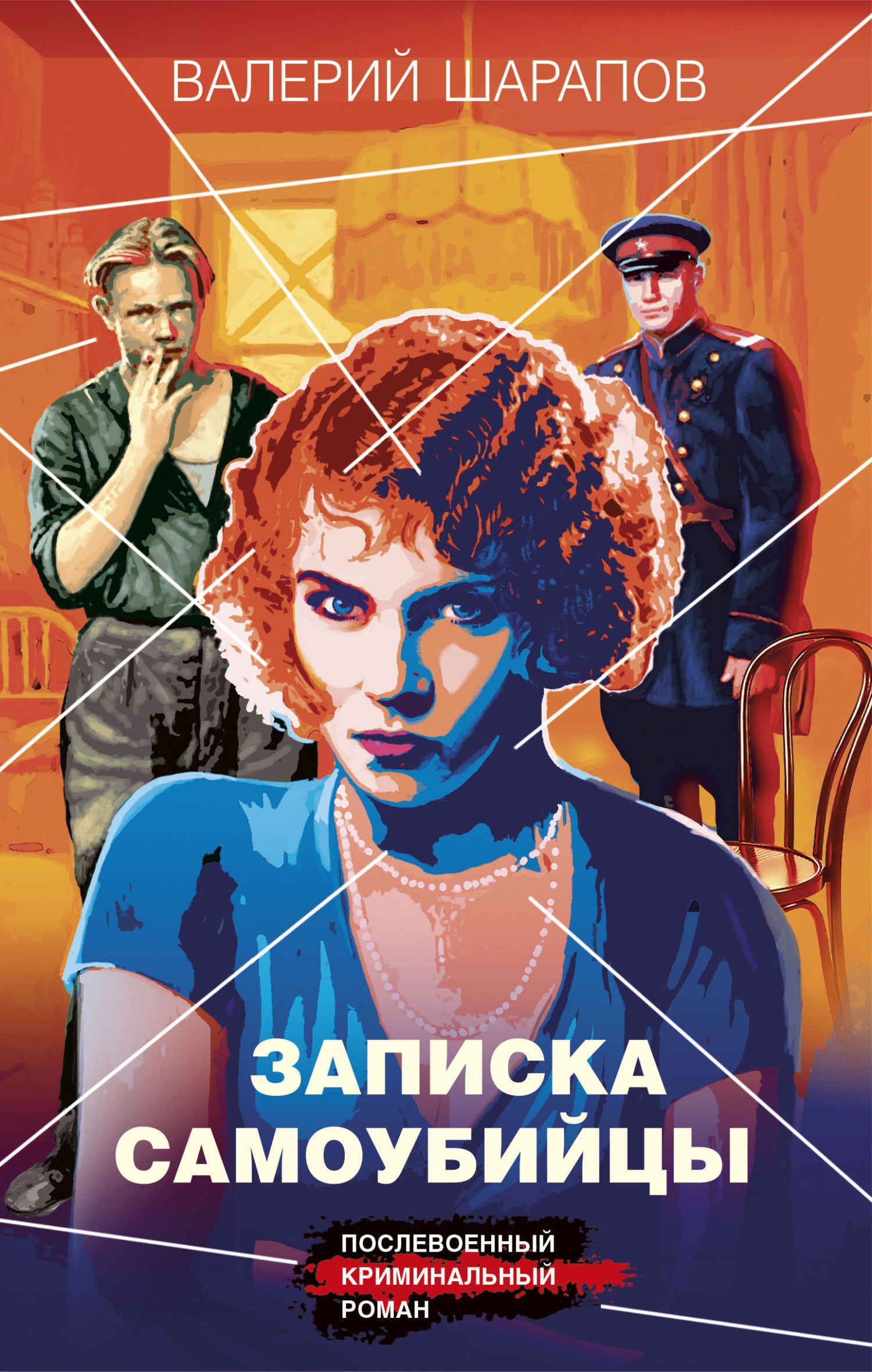кто ж населению обувь починять будет?
– Ну-ну, дело хорошее, – одобрил Колька. – А знаешь, мы с тобой пойдем.
– Чего это вдруг?
– Поможем. Тебе ж тяжело пока будет.
И, не обращая внимания на слова Цукера о том, что он и сам прекрасно управится, пошли с ним вместе. По пути Пельмень, который из-за Анчутки и по старой памяти Сахарова недолюбливал, доканывал его своими речами.
– Я вот, Рома, все никак в толк не могу взять, за что тебя по голове огрели. Уж такой ты умница и ловкий парень, ну никто тебя не обскачет.
– Ну не так чтобы…
– Вот и я говорю: ловкий ты парень, Рома Сахаров, а вот находится какая-то редкая сволочь, и прямо тебя по умной голове. А за что, спрашивается?
– В самом деле, за что? – кротко спросил Цукер. – Работаю, никого не трогаю…
– Ботиночки-сандалики починяешь, – подхватил Колька, – а заодно, ну то есть в свободное от работы время, можно и подтибрить того-другого, скажем, с вагонов у Трех вокзалов, а то и кого из мелкоты подбить на такую вот разгрузку, да, Сахаров?
– Понятия не имею, о чем ты.
– А это все эхо от сотрясения, – авторитетно заявил Пельмень, – так всегда бывает, поскольку после того, как по кумполу огреют, ни мысли умной не остается.
Колька вторил:
– Мы ж потому с тобой и ведем такие разговоры, что ценим тебя: парень ты неплохой, но если будешь продолжать водиться с теми, кто дерется, то ненароком и плетнем придавит…
Цукер держался молодцом:
– Нет тут плетней.
– Нет, так можно и другой пример привести. Ты вот с Хмельниковым наверняка дела имел.
– Нет.
– Имел, имел, не скромничай. Ворон с вороном завсегда водится. Так потонул, несчастный.
– Неужели, – пробормотал Сахаров, – как же это он?
– Ну как-как. Совесть замучила, к ногам бечевочку прикрутил, на нее – тот самый мешок, сахар с мелом, – да и нырнул в озеро.
– И этот, – пробормотал Цукер, – ну бл…
– Не ругайся, а еще воспитанный ребенок, – пристыдил Колька. – А что, Рома, ты пацана, который из фортки сиганул на твою крышу, сам решил припрятать или он попросил?
– А ты и это знаешь.
– Чего ж нет. Ну так что?
– Сам, конечно. Что я, западло, щуренка в котел тащить. Пусть уж вырастет…
Пельмень не сдержался, хохотнул:
– Ох и славный ты жук, Рома. Остроумный. А коли так, то поймешь, к чему этот разговор.
Цукер отмолчался. Тем более что уже подошли к дому на Советской и к подвалу обувщика. Рома достал ключ, уточнил:
– Вы что ж, ко мне?
– Обязательно, – заверил Андрюха, показывая ботинок, вот-вот потребующий каши, – видишь, набегались по камням да сырости, а у меня и на смену ничего нет. Помоги, сделай милость.
В подвале Андрюха, сняв ботинки, с наслаждением пошевелил пальцами, чистоплотный Цукер поморщил нос, стараясь, впрочем, сделать это незаметно, а Колька, повинуясь мучающей его мысли, подошел к своему старому знакомому – шахматному столику. Почему-то всплыли в памяти слова Оли про профессора Шора, который в него от супруги прятал папиросы.
«Куда ж тут прятать? – соображал он, рассматривая толстую столешницу, ножки из металла. – Нет ни ящиков, ни выемок. И почему это, интересно, Цукер одним глазом смотрит на работу, на ботинки Андрюхи, а другим – на меня. Вот-вот окосеет».
– Похозяйничаю тут у тебя, Рома? – Не дожидаясь разрешения, он снял покрывающее поверхность стола толстое стекло, отставил в сторону.
Цукер заметно дернулся, но, перехватив теперь уже Андрюхин дружелюбный взгляд, остался на месте, добродушно позволил:
– Будь как дома.
– Спасибо.
«Как это там… дебют орангутана. Бэ-два, бэ-четыре, е-семь – е-пять. А ну-ка», – и, нащупав нужные клетки, скорее из озорства, чем ожидая чего-то, одновременно надавил на них. Они, казавшиеся цельными, поддались. Раздался тихий щелчок, сбоку отошла кромка столешницы, представлявшейся монолитной…
Цукер тигром прыгнул к столу, но потерял равновесие и чуть не упал. Андрюха, перехватив его руку, усадил на табурет:
– Береги нервы, Рома. Починяй ботинок, без тебя разберемся.
А Колька уже осторожно отодвигал открывшийся тайник: под столешницей, в маленьком ящике, лежал небольшой бархатный мешочек. Стоило развязать его шнурки – и по стенам подвала заиграла зеленая радуга. Это был удивительный камень, немного продолговатый, чуть грушевидный, каждая грань, каждый угол его играл, меняя оттенок, точно живое изумрудное море. Колька поднял его повыше – и убогий свет лампочки, как бы очутившись внутри этого безумно прекрасного мира, выходил волшебными зелеными лучами.
– Вот это да-а-а, – протянул Андрюха, – ничего себе. Цукер, чье это?
– Почем мне знать? – равнодушно отозвался Сахаров, отводя опечаленный взгляд, наклоняя голову, точно полностью поглощенный работой. – Столик этот раньше наверху стоял, может, от старых хозяев-буржуев остался.
Сорокин, вздохнув, в который раз глянул на часы.
– Граждане, мы с вами напрасно теряем время. Я пытаюсь вам помочь, а вы упорно стараетесь наработать себе на четверть века лагерей. Я честно пытался держать при себе козыря, но уж простите… Итак… – Он потянулся к папке: – Вот справка о том, что гражданин Лапицкий, Марк Наумович, из духовенства, был арестован минским гестапо в июне сорок второго года за связь с подпольем.
– Я в самом деле сотрудничал с подпольем, – подтвердил Лапицкий, – и в самом деле арестовывался гестапо. В результате побоев стал инвалидом.
– По чему именно вас били? Отвечайте, быстро, – приказал капитан.
– Резиновыми дубинками, по спине.
– Не по лицу, оно у вас не тронуто. И тем не менее матушка Анастасия Лапицкая, попадья, супруга, точнее, вдова священника Лапицкого, вас не узнала. Как это понимать?
Человек, называвший себя Лапицким, молчал, только изменил позу: опершись локтями на колени, сидел, опустив голову, как сильно уставший человек.
– Оставьте его в покое, – вдруг потребовала та, что называла себя Зоей, – полагаю, узнала меня матушка. Не думала, что я так хорошо сохранилась.
– Она многое о вас рассказала, – подтвердил Сорокин, – и лишь потому я говорю с вами с глазу на глаз. Или мы с вами оформляем чистосердечное признание, или данные о вашей работе в гестапо будут преданы гласности. А вы знаете, во что это выльется, – даже если все вами спасенные будут хлопотать за вас.
– Знаю, – зло огрызнулась она, – ненавижу и гестаповцев, и тех, кто именует себя «нашими». Одинаково палачи, никакой разницы.
– Ближе к делу.
– Ладно, согласна. Ты? Обратилась она к лже-Лапицкому.
– Я готов, – спокойно произнес тот.
– Ваше подлинное имя?
– Гауф, Елена Францевна.
– Карзинкин, Александр Александрович.
– Вот оно что, – протянул капитан, – это все объясняет.
– Не все, – возразил он, – кстати, если в минском подполье остались свидетели, то они должны помнить, что