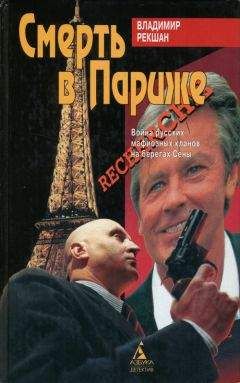— Коля, — начал я снова, вспоминая, что хотел сказать, — не проще ли их всех перестрелять к чертовой матери. Перестрелять и свалить.
Николай Иванович ухмыльнулся несколько печально и ответил почти не раздумывая:
— Конечно проще. С тобой, лейтенант, это получится. Теперь я верю, после фермы, в советскую армию. Зря ее поливают на всех углах всякие газетно-телевизионные мокрощелки или гомики… Но мы пока уходим от генерального сражения, поскольку у нас задача не просто всех перестрелять, но и сохранить положение. Положение — оно наше. Тебе о нем знать необязательно! Связано оно с российскими деньгами, которые циркулируют тут. Мы с Габриловичем ими не владеем, но в определенном смысле отвечаем…
— Представляю в общих чертах. За это я вас и должен был укокошить.
— Н-да… Я и забыл как-то. Извини!.. Ну так вот. Тут идет тонкая игра. Стрельба — лишь один из аргументов.
— Отлично, Коля. Знаешь, что я думаю, Коля. Все, что ты говоришь, Коля, болтовня, базар — плюнуть и растереть. Стрельба — это не один из аргументов. Это главный и последний аргумент! Еще раз предлагаю — давай перестреляем кого надо и свалим домой!
Мсье Коля закрывает глаза и отвечает шепотом:
— Так хочется. Всех перехлопать. И — домой. Родная, блин, березка…
Два моих «я» лежали на диване, но все-таки это было одно тело. Один хотел дочитать книжку, другого же интересовал Учитель-Вольтер. И первый, и второй желали хотя бы увидеть Марину и узнать, для чего совершился поцелуй и к чему-то он обязывает или же нет?
Сперва явился Учитель-Вольтер. Его профиль словно вылупился из занавески.
— Маюсь, Учитель, — говорю. — Слишком много меня и много мыслей.
— Ну да, сынок! — тихо смеется он. — Нашими первыми идеями, несомненно, являются наши ощущения. Постепенно у нас образуются сложные идеи из того, что воздействует на наши органы чувств, а наша память удерживает в себе эти восприятия. Затем мы их подчиняем общим идеям. Все обширные познания человека вытекают из единственной этой способности сочетать и упорядочивать таким образом наши идеи.
— И всех-то дел, Учитель? А где же романтика?
— Всех-то и дел, сынок. Какая может быть романтика в наши годы?
— А какие мои годы? — спрашиваю.
Нет ответа.
Я лежал на жестком кожаном диване, привык к нему. Вспомнил о том, что книжка лежит под подушкой. Вытащил ее и стал читать:
«Успели выдвинуть отведенное недавно от берега усталое ополчение и несколько свежих сотен Третьякова вместе с конницей к роще, перекрыв кривую неширокую дорогу, чтобы сдержать хоть на сколько-нибудь несущегося от малого брода врага, который вполне мог пробиться и сквозь редкий опавший лесок, мог и вовсе при желании и уме — если не притупился он от нетерпения предстоящей резни — миновать прямой удар, обогнув лес дальним полем, и выйти в спину князю.
Успел князь, призвав Богородицу, попросить Бориса совершить невозможное — без конницы, тремя лишь „тюфяками“ и ополчением пешцев не дать все-таки главной силе врага перейти большой брод. Притом не смог князь пообещать Борису, что не вонзится ему в спину сабельный удар орды. Был послан гонец навстречу брату, но не было до того вестей ни от него, ни от соседей — значит, не было и гарантий, что поможет кто-нибудь в ближайший час, на который, пожалуй, и хватит сил у князя. Перед тем быстро и торопливо пронесли перед войском Спаса Нерукотворного — войско хмуро прослушало спасительный теноровый ирмос, в котором одиноко, как тревожная правда, слышался бас протопопа, а последующее пение уже слушали не внимательно, каждый шевелил губами, молясь сам с собой, отчего над землей словно прошелестел листьями ветер: бу-бу-шу, бу-шу-бу.
Войско, громыхая щитами, ножнами и прочей амуницией, сомкнуло ряды возле леска, меж щитов торчали сулицы и рогатины — этакий еж…
Крики и вопли — не нарастая — возникли сразу, и тут же за ними — криками и воплями — вылетела на вершину холма, поросшего лесом, орда и по дороге устремилась вниз. Этой рубки ждали с утра, но все равно получилось неожиданно и быстро. Конница неслась по дороге, часть ее все-таки догадалась рассеяться по роще, растягивая фронт, а навстречу ей, охватывая дорогу с двух сторон, устремились княжеские конники.
Орда вонзилась в ощетинившийся пеший строй, но не пробилась, завязая. С двух сторон ничтожно малыми силами пытались удержать на дороге орду конные княжеские дворяне. Полилась кровь, делая грязь под ногами бурой и теплой. Дико кричали кони. Короткими сулицами, предназначенными больше для метания, пешцы вспарывали коням животы, те падали, роняя всадников, на всадников падали пешцы. Душили друг друга, резали глотки кривыми ножами, предсмертно грызлись, не отпуская и в смерти… Орда завязла пока, били орду, и орда била…
С последней сотней молодых гридников и ближайшим окружением стоял за пешцами князь. Золото хоругвей и стягов, золото насмешливого, такого потеплевшего, разгулявшегося дня — в синей вышине неба мирно и натруженно летел птичий клин…
Князь видел, как повалились первые ряды пешцев, как полетели сулицы, как — обгоняя их! — летели стрелы в свалку первых рядов. Строй ополчения выгнулся, словно лук, и на тетиве этого лука визжала орда… И все это — в каких-то пятидесяти шагах от князя, и ясно слышно, как стучат сабли, — значит, удар пришелся по щиту — или будто причмокивают, — это живую плоть перерубает сталь…»
Я отложил книгу в сторону, не дочитав. Это дочитать невозможно, поскольку у нашей истории нет конца. Хазары, печенеги, половцы, монголы, турки, а теперь и чеченцы спустились, блин, с гор. Тем, кому положено жить в лесах, не фиг выходить в степь. На стыке степи и леса идет резня уже тысячу лет, и все выше, выше поднимается степь, проливается наша кровь; но и в лесу мы не лыком шиты, размножаемся, обращая каждое поражение в победу, учимся, перенимаем все; да и степь перенимает, стала креститься и бить поклоны; теперь не поймешь, кто где…
А ихний Филипп Красивый остался королем. Посмотрел бы я на его красоту, если б ушли мы в северные чащи…
А может, и не Филипп Красивый царил тогда у французов. Какой-нибудь другой, тоже красивый европеец в розовых кальсонах…
Сперва раздваивается личность, после начинается припадок. После припадка самое то, самое «молчание ума», как настаивает Ауробиндо.
Столько учителей у меня, но не получается быть хорошим учеником. «Молчание ума» не выходит, не получилось Габриловича и Гусакова укокошить, как учил покойник Петр Алексеевич и другой безымянный покойник из отеля. На что намекает Учитель-Вольтер, я вообще не понимаю, а старик в таджикском халате просит плюнуть на всех и не попасть в себя…
Не знаю я. Истина должна быть простой, как ручей, а мы нагромоздили, напридумывали слов. У чукчей, например, мало слов, но и они к слову «снег» сочинили пятьдесят определений. Попробуй теперь в этом снеге разобраться…
Настольная лампа светится желто и уютно. Два моих «я» спорили, а я оставался безучастным. То есть в таком состоянии моего участия не предполагалось. Так я думал и был не прав.
Сперва слух уловил — что-то зашелестело. Потом увидели глаза, и оба «я» заткнулись. Марина вошла в комнату и стояла теперь в двух шагах от меня все в том же знакомом мне синем халате.
— Что с этим делать будем? — спросила она.
— С чем? — не понял я.
— С тем, чего делать не следует.
Она села на край дивана. Ее лицо не выражало ничего. Ровное и красивое лицо без эмоций.
— А кто это сказал? — спросил я.
— Никто и не говорил, — ответила она. — Я останусь с тобой.
— Оставайся.
— И что ты станешь думать обо мне?
— Ничего.
Утром мсье Коля увидел нас под одним одеялом и вида не подал. Выпил кофе с круассанами, закурил, пустил дым в потолок и сказал:
— Он же покойник. Вечно ты, милая, с покойниками связываешься.
Марина повела плечом, посмотрела в мою сторону, как врач-реаниматор, и ответила:
— Не похож… Если уж кто и похож на покойника, так это ты, Николай.
Мсье Гусаков нервно потушил сигарету, не докурив.
— Ты со мной не связывалась. Ты моя родственница. А про твоего мужа, если помнишь, я тебе сразу сказал…
— Хватит, Николай! — Я поднялся с дивана и быстро натянул свои вельветовые штаны. — Какой толк от таких базаров! Ее мужа убили. Тебя, меня, Марину — всех могут. Такие разговоры нас и погубят. Бесконечное русское самоедство! Твой друг Пьер сейчас небось ножи точит, а не рассуждает! Давай лучше делом заниматься. Ты меня должен посвятить в детали. Что Габрилович? Этот хренов Марканьони? Аллен Красавчик? Он же Корсиканец и Марселец! Кто нас подставил? За что парни погибли? А то, что Марина теперь со мной, это не твое дело.
Лицо у мсье Коли как-то разгладилось, и ответил он почти весело: