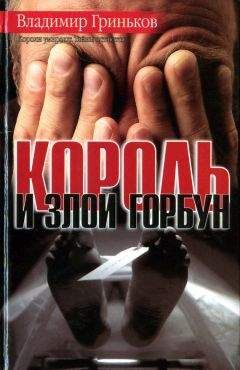А на трибуну один за другим выходили выступающие. Рабочий – вся грудь в давно забытых Никаноровым орденах и медалях – рапортовал о трудовых успехах и благодарил партию и лично дорогого Леонида Ильича за неустанную заботу о рабочем человеке. Ткачиха из Иванова предложила переходить к социализму как можно скорее, потому что уже все склады забиты тканями, и это богатство пора бы передать народу. Космонавт аж с тремя геройскими звездами на груди сообщил, что первая советская обитаемая марсианская станция работает уже три года и на Марсе найдена жизнь, о чем он и рапортует съезду. Все вскочили и зааплодировали, и Федор Петрович тоже. Предыдущие годы не дали ему ничего, кроме разочарований и все углубляющейся печали. До него никому не было дела, и это страшно тяготило, и вот только сейчас обнаружилось, чего ему не хватало больше всего – чувства сопричастности. Он хотел быть со всеми, плечом к плечу, в едином строю, один за всех и все за одного, чтоб в коллективе и чтоб сообща, а его лишили этого, и это было самое ужасное. Но теперь все вернулось, он уже был не одинок и испытывал восторг – такой, какой еще ни разу в жизни ему испытать не доводилось.
Потом выступал министр сельского хозяйства. И опять Федор Петрович услышал для себя много нового. Оказывается, это здесь, в европейской части страны, дела в сельском хозяйстве шли ни шатко ни валко – так сделали специально, чтобы картина якобы развала выглядела более полной, а на самом-то деле за Уралом, в районах, куда не допускались досужие журналисты, была создана мощная мясо-молочная база. Там с полей урожай снимался по два раза в год, там ходили стада тучных коров, которые молока давали вдвое больше хваленых голландских буренок, там вывели новый сорт персиков, которые не боялись морозов, а картофельные клубни весили не меньше чем восемьсот граммов каждый.
Федор Петрович жил все эти годы, даже не подозревая о существовании параллельного, вполне благополучного мира. Там, где жил он, с наступлением сумерек страшно было выйти из дома, там месяцами не платили зарплату, там росли цены и становились недоступными лекарства. А где-то совсем рядом, в параллельном мире, люди своим трудом крепили могущество Родины, там не было ни вороватых «челноков», ни злых чеченцев, а одни только трудовые подвиги. В том, параллельном, мире мы по-прежнему оставались самой читающей страной, и тракторов выпускали больше всех, и на Марс прилетели вперед этих заносчивых америкашек. Там мы были сильны, но просто, оказывается, еще не время было говорить об этом, и сам Федор Петрович до сегодняшнего дня ничего не знал, даже не догадывался, и открывшееся ему так его потрясло, что, попытайся мы сейчас вернуть его к действительности, он не поверил бы, отказался бы верить, потому что здесь, в этом зале, с этим его новым знанием о жизни, ему было хорошо.
Разумеется, без недостатков не обходится нигде. На этот раз на партийном съезде досталось заведующему идеологическим отделом ЦК. Поначалу, выйдя на трибуну, он говорил гладко, и казалось, что неожиданностей не предвидится. Вверенный ему отдел отвечал за то, чтобы те, кому до поры не положено было знать об удивительном и смелом эксперименте партии, сполна прочувствовали все прелести «свободной жизни». Завотделом сообщил, сколько человек официально числится безработными, во сколько раз упал жизненный уровень несчастных, особенно сделал упор на то, что благодаря стараниям его отдела более шестидесяти процентов трудящихся не получают вовремя зарплату.
И вот тут грянул гром.
– Всего шестьдесят? – спросил из президиума Брежнев.
До сих пор он, казалось, дремал, утомленный долгим докладом, но на самом деле держал ухо востро. Спросил, правда, совсем не грозно, а так – будто сомневаясь и ожидая, что вот сейчас докладчик извинится и назовет другую цифру, но этого не произошло.
– Шестьдесят, Леонид Ильич, – подтвердил завотделом в ставшей вдруг гробовой тишине.
– Вас, товарищ Мезенцев, партия поставила на этот ответственный участок работы для чего? – спросил Генсек.
Никаноров увидел, как пошло пятнами лицо завотделом.
– Для того, товарищ Мезенцев, чтобы вы сделали народу плохо. А вы сделали плохо только шестидесяти процентам, – сказал Генсек и пожевал губами, словно несказанно обиделся на своего собеседника.
Завотделом явно перетрусил и, то и дело сбиваясь, принялся торопливо перечислять успехи: хотя сорока процентам работающих пока и выплачивается зарплата, но зато ведь здравоохранение стало совсем ни к черту, и пионерские лагеря отменены, а транспорт как плохо работает – это ли не достижение? А вот еще, продолжал он, ежели даже человек и работает, и зарплату получает, ему ни в жизнь на курорт не поехать, как в прежние времена, потому как дорого, – и как же в таком случае можно обвинять его отдел в ничегонеделании? А пропавшие на сберкнижках деньги? А финансовые пирамиды, от которых пострадали миллионы? А отключения электроэнергии? А холодные батареи зимой? Ведь все, все делается для того, чтобы как можно быстрее захотелось в прошлое, туда, где было теплее, светлее, спокойнее и лучше.
– Вы все в одну кучу не мешайте, – строго сказал Генсек. – Давайте все-таки успехи отдельно, а недоработки тоже отдельно.
У Никанорова уже глаза лезли на лоб. Ему вдруг открылась картина происходящего, и все, что прежде казалось случайным или непонятным, вдруг обрело смысл. Он поверил и готов был раствориться в этом своем новом знании, в новой вере.
А на трибуну уже вышел новый оратор. Он тоже представлял идеологический отдел, но отвечал конкретно за деятельность средств массовой информации. И ему досталось на орехи. Особо было отмечено, что не все еще резервы использованы, что маловато в последнее время стало чернухи, что побольше бы надо показывать по телевизору рекламы и еще – голых девиц, потому что и то, и другое чрезвычайно раздражает людей, и это очень хорошо. В свое оправдание докладчик смог только сказать, что журналисты и так стараются, что нет ни одного номера газеты, в котором не упоминалось бы о катастрофе или об убийстве каком, а «Московский комсомолец» еще и фотографии убиенных печатает…
– Убиенные – это хорошо, – сказали из президиума. – Это хорошо. Главного редактора надо бы наградить.
– Уже! – с готовностью сообщил докладчик. – Он выдвинут на Государственную премию.
– Может, Ленинскую премию дать? – озаботился Брежнев и посмотрел на своих соседей по столу, словно желая с ними посоветоваться.
– У нас даже редактор «Правды» без Ленинской, – напомнил кто-то.
– Хорошо, – кивнул Генсек. – Пусть будет Государственная.
Часы уже показывали половину шестого утра. Воздух в зале загустел и уплотнился. Я видел, что Никаноров, пребывающий без сна целые сутки, начинает постепенно «плыть», теряя способность оценивать происходящее. Так бывает с людьми уставшими и к тому же испытавшими сильное потрясение. Для них явь и миражи сплетаются воедино, уже не понять, где что, мозг отказывается подчиняться, и наступает апатия. Я выглянул из своего укрытия и показал президиуму жестом, что пора бы заканчивать. Генсек тотчас поднялся со своего места.
– Дорогие товарищи! Первый день съезда (хотя была ночь!) предлагаю считать закрытым. Сейчас вы выйдете в город. Помните, что очень скоро все изменится. Жизнь вернется в нормальную колею. А пока желаю вам успехов и выдержки в вашем нелегком труде.
На этот раз пели не гимн, а «Интернационал». Никаноров не знал слов, но пытался подпевать. У него был несколько возбужденный вид, и смотрелся он вполне счастливым человеком. Даже жалко будет его разубеждать.
Вместе со всеми Федор Петрович вышел из зала и очутился в вагоне электропоезда. Опять все молчали, и опять электропоезд катился по неведомому маршруту, без остановок проскакивая незнакомые Никанорову станции. На платформе, с которой Федор Петрович уезжал прошлой ночью, всех высадили из вагонов. Никанорову надо было бы оставаться здесь, дождаться обычной электрички и ехать домой, но он почему-то не сделал этого, а направился к ведущему наверх эскалатору, вместе со всеми.
Москва уже проснулась. Несмотря на ранний час, спешили по своим делам прохожие. Делегаты съезда, недавние спутники Никанорова, выходили из вестибюля станции и тотчас же смешивались с толпой – они были такие же, как и все, не отличить, и эта похожесть заставила Федора Петровича испытать еще одно потрясение. Его вдруг осенило, что этих, «посвященных», тех, кто знает о тайне партии, очень и очень много. Они ходят по улицам, внешне ничем не отличимые, и незаметно, но настойчиво выполняют доверенную им партией работу. Сколько их? Миллионы? Десятки миллионов? Сейчас ему казалось, что именно так дело и обстоит. Чувствуя легкое головокружение, он нетвердой походкой пошел по тротуару. Продавец из коммерческого киоска окликнул его:
– Эй, папаша! Не проходи мимо! Трубы горят, да? Опохмелиться надо?