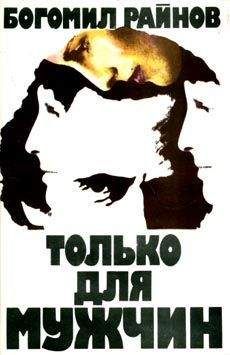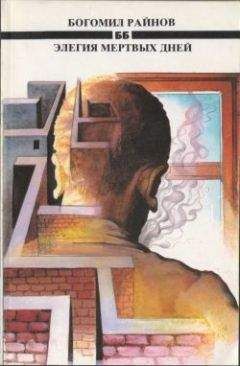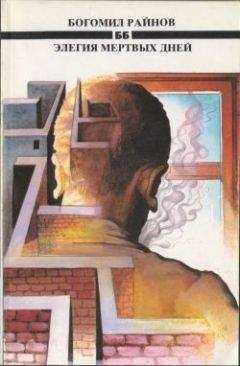— Похоже, в обмен на свободу, Вале обязали сыграть определенную роль, — комментирует вечером Борислав. — Только он в чем-то усомнился и перепоручил свою миссию этим двум наркоманам.
— А какая, по-твоему, связь между полицией и Вале?
— Ясно, что опосредованная. Но важно, что такая связь есть.
— Может, кое-что просочится в прессу. Не в твою «Демократию», конечно, а в какую-нибудь газетенку из тех, что пишут, о чем придется.
— Не надейся больше найти в прессе сообщений о Вале. Эта тема исчерпана.
Действительно, исчерпана, но, как оказывается, не до конца. Спустя три дня в прессе появляется сообщение о том, что в лесу под Княжево обнаружен труп беглого заключенного Валентина За́ркова.
Наступила весна.
Из окна этого незаметно, но достаточно пройтись по улице, чтобы убедиться: сменяемость времен года идет своим чередом. Некогда здесь стояла стена, за которой располагался зоопарк, но ее давно снесли — задолго до Берлинской, — и зоопарка больше нет. Хотя на сей счет существует и другое мнение.
— Разогнали антилоп и зебр, чтобы предоставить простор скотам, — комментирует Однако.
Под «скотами» он, конечно же, подразумевает мальчишек, которые, занимаясь спортом, вытаптывают траву и ломают ветки деревьев. Мы с Однако приходим сюда почти ежедневно, но сидим в стороне от «скотов», в тихом уголке парка, где с помощью нескольких листов фанеры и большой массы предпринимательского энтузиазма сооружен павильон для продажи газированных напитков и кофе. Садимся на скамеечку перед павильоном и проводим часть утра на природе.
— По-моему, немного ржи добавлено, — замечает Однако, отпивая из пластмассового стаканчика глоток кофе эспрессо.
— Нет в нем никакой ржи. Чистый кофе.
— Может, и чистый, но немного ржи все же есть.
— Ты так нанюхался своей ржи, что тебе шампанского налей — и оно будет рожью отдавать.
— Ну, я не такой утонченно культурный, как вы с Бориславом, — пить шампанское на Елисейских Полях не доводилось.
Что касается Борислава, он редко составляет нам компанию. Он, в отличие от нас, работает.
— Как это вы с Однако высиживаете в этом парке! — спрашивает как-то утром Борислав. — Там так воняет выхлопными газами с бульвара, что долго не высидишь. А вы торчите рядом с этим буфетом и воображаете, будто дышите чистым воздухом.
— Ну, у нас же нет, как у тебя, лимузина, чтобы выехать за город.
— Ты у меня прямо с языка снял. Я как раз собирался сказать, что починил свой катафалк и приглашаю тебя на воскресную прогулку.
Катафалком он ласково именует свою «Ладу».
— И куда мы поедем?
— Куда скажешь.
— Ну, скажем, туда, «где впервые ты зари увидел свет»[8]. Это недалеко.
— Недалеко-то недалеко, но тебе известно, что такое сельская нищета?
— Мне не приходилось жить в сельской местности.
— Ты никогда не говорил, откуда родом.
— Ниоткуда.
— Как это «ниоткуда»?
— Из приюта.
Замолкает. Потом говорит:
— В приюте бывать не доводилось, но знаю, что это такое.
— Откуда ж ты знаешь?
— В моем селе, куда ты предлагаешь съездить, есть один такой приют. Называется «Сиротский дом». Построили когда-то. Но сейчас он в таком жалком состоянии, что и говорить не хочется.
И хотя говорить ему не хочется, он рассказывает мне, как в этом приюте живется детям: носят рвань, зимой замерзают и постоянно недоедают.
— Дошло до того, что чаще всего вся их еда — это два кусочка хлеба в день: один на обед и один на ужин.
— Пустой хлеб?
— Иногда не пустой. Бывает, местная власть выделяет им бутылку подсолнечного масла и пакетик красного перца. Капнут несколько капель масла на хлеб, посыпят слегка перцем — и уже не совсем пустой хлеб.
Бросает на меня быстрый взгляд:
— Похоже, твой интерес к моему родному селу испарился.
— Напротив. Лишь бы ты не устыдился свозить меня туда.
«Катафалк» припаркован аж на улице Стефана Караджи.
— Ты поставил машину возле самого министерства, — отмечаю. — Надеешься, что, если будешь держаться к ним поближе, то, глядишь, снова возьмут на работу?
— Нет, просто надеюсь, что отсюда ее не угонят.
— Думаешь, найдутся желающие угнать твою «Ладу»?
— Мало ли… Если кому-то понадобится установить взрывное устройство, воспользуются именно такой неприметной машиной.
Разговор продолжается в «катафалке», вылизанном до исступления — ни окурков, ни сигаретного пепла, ни соринки. Машина едет вдоль фасада министерства, и это дает мне повод задать давно назревший вопрос:
— Интересно, почему этот грозный лев на входе смотрит в сторону улицы Графа Игнатьева?
— Чует, что враг появится именно оттуда.
— А что ему мешает появиться со стороны улицы Шестого сентября или улицы Гурко?
— Исключено. Все квартиры в той части города заселены людьми спецслужб.
— Во всем мире так.
— Не уверен. Говорят, кого тут ни толкни ненароком в толпе, окажется, что — агент в штатском.
— А тебе-то что до этого?
— Ничего. Просто говорю. Как Однако — сам с собой.
Разговор ни с того ни с сего обрывается. А потом также ни с того ни с сего возобновляется. Только мы разговариваем не вслух, а про себя. Как Однако. Такая безмолвная беседа продолжается у нас аж до тех самых пор, пока не выезжаем на равнинную местность с полями по обеим сторонам дороги. От Софии мы уже довольно далеко, поскольку вокруг столицы давно уже практически не осталось никаких полей.
— В прежние времена, — говорю, — нас донимали темой пахоты. Газеты только о ней и писали — приступили к пахоте, закончили пахоту, опоздали с пахотой… Как будто в Болгарии других проблем не было. А сейчас, как я посмотрю, пахота никого не интересует, даже тех, кому ею следует заниматься в силу профессии.
— Им не остается времени на пахоту, — объясняет Борислав. — Все время у них уходит на споры, какая земля кому принадлежит.
Съезжаем с главного шоссе и едем по второстепенной дороге. Через два-три километра съезжаем и с этой дороги, сворачивая на другую — неровную, узкую, очевидно, проселочную. Едем среди голых холмов, пока не упираемся в барьер. Барьер — это широкая доска, прибитая к двум столбам по сторонам дороги. Надпись на ней крупными неровными буквами извещает:
РЕМОНТ ДОРОГИ
— С самой осени ремонтируют, — объясняет Борислав. — И, наверное, с таким же успехом будут ремонтировать до следующей осени. По одной-единственной причине: никто не собирается заниматься этим ремонтом.
Он глушит мотор и открывает переднюю дверцу, чтобы выветрился табачный дым.
— И как же село поддерживает связь с внешним миром?
— С другой стороны села есть еще одна дорога. Ее состояние намного хуже, но там ремонтом и не думают заниматься.
Снова едем, но уже в обратном направлении. Когда выбираемся на шоссе и устремляемся к Софии, мой спутник предлагает:
— Давай где-нибудь остановимся, выпьем пива. А то получится, что прокатились впустую.
Останавливаемся у первого придорожного заведения, попавшегося на глаза. Располагаемся на улице, поскольку внутри все провоняло уксусом.
«Думаешь, здесь лучше, чем в нашем павильончике?» — хочется мне спросить у Борислава, но молчу. Он и так не в духе.
— Ты прав, я не в духе, — подтверждает он мои невысказанные мысли. — Не стоило нам сюда ехать.
Выпиваем по бутылке пива и заказываем по второй. Пиво хорошее, не местное — привозное из Шумена.
— И чего ты скис? — ворчу я, приступая ко второй бутылке.
— Из-за тебя. Заставлять нищего демонстрировать свою нищету — непорядочно.
— Я думал, тебе будет приятно оказаться в родных краях. «Вернуться бы и дом увидеть отчий»[9]… или как там…
— Нет, не приятно. И мой отчий дом, если он все еще стоит, наверное, давно превратился в сарай. И вообще, если спросишь меня, весь этот плач по отчему дому — сплошная глупость.
Не возражаю. Не стоит этого делать, пока не прошла его досада. Лишь когда приступаем к третьей бутылке, замечаю, чтобы нарушить молчание:
— Что-то мне подсказывает, что ты не из деревенских…
— Из деревенских. Хотя мой отец не сеял и не жал. Он был сельским учителем. Из тех, без вины виноватых, которым и на селе не место и в город путь заказан, отчего у них вечный зуд покритиковать.
Под влиянием выпитого Борислав переходит на более длинные фразы — верный знак того, что он успокаивается. Рассказывает, что его старик был на ножах с Судьбой, поскольку она помешала ему окончить университет и найти место учителя в Софии. Когда однажды он спросил инспектора: «До каких пор вы будете меня держать в этом селе?» — тот его оборвал: «Пока у нас хватит терпения». Это оттого, что сельский староста и поп наговаривали ему на старика, будто он настраивает бедноту против власти.