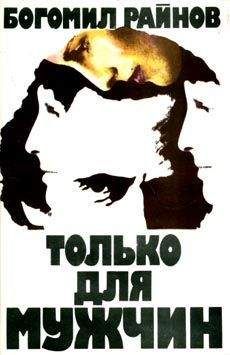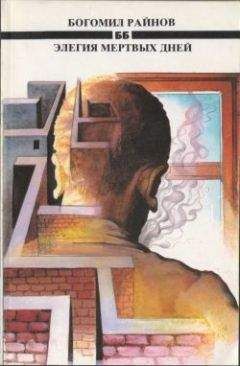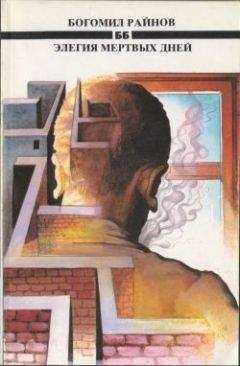— А тебе она известна?
— Кое-что известно, но это другой разговор.
— Когда ты сказал «голая правда», мне вспомнилась твоя «голая правда» в позолоченной раме. Ты все еще хранишь ее?
На его лице мелькает некое подобие улыбки.
— Покажу, когда придешь в следующий раз. Тогда, может, и настоящего кофе выпьем.
И уточняет:
— Если принесешь с собой.
Зимой лучше всего сидеть дома. Особенно если тебе некуда идти. К Бориславу это не относится — человек занят: работает в телеателье. Моя же проблема в том, что я ничем не занят. Поэтому погружаюсь в чтение. В комнате Афины — целая этажерка с книгами, вроде «Унесенных ветром» и ей подобных. Саму Афину, по-видимому, не так сильно уносило в небеса, потому как нахожу среди ее книг и более приземленные — например, «Моя тайная война» Кима Филби.
Мемуары англичанина для меня не новость. Я знаком с ними еще по их первому, французскому изданию. Но сейчас, когда, прижавшись спиной к батарее, снова их перелистываю, мне кажется, что эту книгу я читаю впервые. Когда-то меня интересовали в ней исключительно профессиональные подробности. Снимал шляпу перед размахом деятельности автора мемуаров, однако в технических деталях не находил ничего особо впечатляющего. Впечатление эта книга на меня производит только теперь — поразительное и гнетущее.
— Ты читал ее? — спрашиваю Борислава, когда вечером он заглядывает ко мне в комнату.
— А как же. Это ведь я ей подарил.
— Чтобы жена получше поняла, какая у тебя профессия?
— Глупости. Филби и я!.. Или — Филби и ты!.. Принц и нищий.
Он только пришел и не торопится снять с себя объемную куртку.
— Батарею согреваешь? — спрашивает.
— Пытаюсь, — отвечаю, но мысли мои заняты раскрытой передо мной книгой.
— Раньше я завидовал его счастливой судьбе. Теперь понимаю, что это была настоящая трагедия.
— Почему трагедия? — бормочет Борислав и садится на кровати, устремляя рассеянный взор на Эйфелеву башню.
— Представь себе, человек прибывает в Москву победителем, потрясшим своими успехами весь мир. Его голова полна идей на миллион. Он приезжает, чтобы продолжить служение Делу, ради которого тридцать лет рисковал жизнью. А Дело делает вид, что не замечает его. Смотрит куда-то в пустоту и ковыряет в носу. «Филби? Ах, англичанин… Изолировать его, поставить на прослушку и взять под наблюдение». И так — больше десяти лет в компании с одним лишь алкоголем.
— Это не трагедия, — качает головой Борислав.
— Как это «не трагедия»?
— А вот так. Настоящей трагедии он избежал. Пусть не Дело, так смерть оказалась к нему милосердной — прибрала его задолго до того, как начался чудовищный крах великого строя.
И, медленно вставая с кровати, заключает:
— Трагедия досталась нам, карликам… Ну что, поужинаем?
Все более растущая дороговизна заставляет нас задуматься о будущем нашего скромного домашнего хозяйства. Поэтому мы сводим к минимуму расходы на питание — особенно после того, как Борислав где-то вычитал, что переедание — основная причина преждевременной смерти. Поэтому, когда я упоминаю «обед» или «ужин», надо иметь в виду, что речь идет не о полноценном процессе приема пищи, а о почти символическом ритуале. Вместо еды мы все больше налегаем на пищу духовную.
И вот, сидим за кухонным столом, поглощенные чтением, каждый — своего; я — мемуаров Филби, а Борислав — официальной прессы, которую, несмотря на всю свою любовь к ней, он не покупает, а берет у товарища по телеателье.
— Чего это ты читаешь «Демократию»? — спрашиваю. — Это ведь орган «синих».
— Потому и читаю. Тебе ли не знать, что главное — быть в курсе того, что творится в стане врага. Что творится у своих, мне и без того известно.
Он складывает газету и кладет ее на стол, передавая в мое распоряжение.
— Меня, Эмиль, все чаще мучает вопрос: кто они — свои и насколько они свои?
— У тебя развивается старческая мнительность.
— Я тоже этим тешу себя. Но сомнения остаются. Разве эти сегодняшние «синие» не были еще вчера «красными»?
— А кем я тебе вижусь? Красным, синим или, может быть, фиолетовым?
— Я не о таких, как мы. Какие мы с тобой — это наше личное дело. Ты знаешь, кого я имею в виду.
Он похлопывает своей большой ладонью по газете, вздыхает и говорит слова, которых я жду от него уже давно:
— Я о тех, Эмиль, кто стоял во главе партии. Они нас предали.
— На основании чего судишь?
— Какие тут нужны основания! Я видел их своими глазами и слышал своими ушами. Не забуду того партийного собрания, на котором наш партийный вождь убеждал нас в том, что с сегодняшнего дня и впредь великий смысл нашей работы — делать обратное тому, что мы делали до сих пор.
— Какие доводы он приводил?
— Железные. Ты ведь знаешь, что доводы, которые вбивают в наши головы сверху, всегда железные. «Забудьте! Забудьте, чему мы вас учили! Забудьте, что вы делали! Раз больше нет противника, то нет и разведки!»
— Мудро.
— Забыли только объяснить, куда нам самим теперь деваться.
— Ясно куда — на свалку.
В кухне повисает тишина, если не считать стука капель из крана, отсчитывающего улетающие секунды. Собираюсь, было, напомнить Бориславу, что надо наконец починить этот проклятый кран, но молчу; чувствую, что в данный момент он занят мыслями о предметах более возвышенных.
— «Построим завод… Построим завод свободы»[7]. Помнишь, когда-то мы учили такое стихотворение?
Не отвечаю. В настоящий момент мне не до поэзии.
— Ну вот мы его и построили. Ну, не стал он чудом из чудес, но ведь работал.
Не возражаю.
— А уж как мы его охраняли. Главным образом от ударов извне. А его взяли и развалили изнутри. Столько сторожей, а его взяли и развалили.
Продолжаю хранить молчание.
— Скажи что-нибудь. Ты ведь был одним из сторожей.
— Ну, раз его развалили изнутри, то и спрашивать надо тех, кто охранял изнутри.
— Столько сторожей… — повторяет Борислав; он, как Однако, говорит сам с собой.
— Спасать ДЗУ или «Химком» было не нашей задачей. Нас отряжали спасать мир. Срывать адские планы поджигателей войны.
— И мы их срывали. Разбивали в пух и прах.
— Может, мы что-что и делали, только впустую. Они изнутри подрывали основание здания, а мы следили за тем, чтоб с фасада не осыпалась штукатурка.
— «Они»? Кто «они»?
— Всякие были, чередовались. Сначала Сталин разжег войну в Корее. Потом американцы разнесли Вьетнам. Затем Брежнев, чтобы окончательно все разрушить, чиркнул спичкой в Афганистане. Чередовались. Главное было — делать дело. Перекраивать карту мира. Обеспечиваться сырьем. Испытывать новые виды оружия и расходовать запасы старого. Люди, дескать, умирают. Да люди и без того умирают. Гибнут, дескать, массово. А это оттого, что массово плодятся.
— И когда ты пришел к таким выводам?
— Не знаю. Наверное, тогда же, когда и ты, — осознав себя преданным.
В кухне снова повисает тишина, и лишь испорченный кран напоминает нам мудрость древних: все течет…
— То, что нас предали, это факт, — настаивает Борислав. — Одного только понять не могу: как мы могли быть такими легковерными!..
— По ряду причин.
— Назови хотя бы одну.
— Гипноз.
Он смотрит на меня задумчиво. Потом качает головой:
— Невозможно так долго находиться под гипнозом — по сути, всю жизнь.
— Неужели? А ведь наши с тобой жизни доказывают обратное.
И, указывая на воспоминания Филби, добавляю:
— А также свидетельство нашего старшего коллеги. Этот человек на своей шкуре испытал все безобразия Большой страны; он сначала описывает их, рассказывая об «ужасных событиях», явившихся результатом советской внешней политики, а потом как ни в чем не бывало пишет: «Но, глядя из окон моей московской квартиры, я вижу прочный фундамент будущего».
— Хорошо, что он не может подняться из могилы и посмотреть на этот фундамент теперь, — бормочет Борислав.
Что не мешает ему тут же возразить:
— Все-таки твоя гипотеза о массовом гипнозе слабовата. Не могут в основах хозяйствования лежать приемы психического воздействия, вроде гипноза. В основе всегда лежит экономика.
— Да, но их собственная экономика — гипнотизеров и тех, кто стоял У них за спиной; она отличалась от экономики всех остальных людей, предназначение которых было умирать — когда от голода, когда от пуль.
— Может, ты и прав, — уступает Борислав, — но какое это теперь имеет значение. Нас никто не спрашивал, каким должен быть наш мир. Мы пришли в него, когда он уже сложился. И уходим, когда он лежит в руинах. Так чего теперь рассуждать?..
— Чтобы почесать языки.
Мой собеседник умолкает. Разговор окончен. Похоже, нам больше нечего сказать друг другу. Но, оказывается, есть.