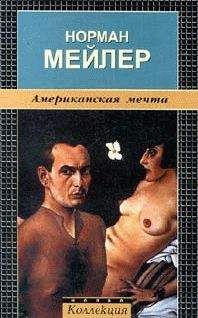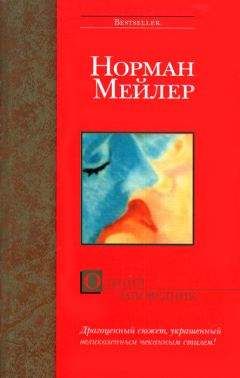Тем не менее я не был уверен, хочется ли мне постучать в дверь спальни, — нет, не для того, чтобы меня снова отослали. Однако какой был у меня выбор? Я чувствовал себя не лучше и, пожалуй, не хуже человека, от которого начальство потребовало отчета в чрезмерных тратах. Какая же тишина стояла в доме, когда я шел наверх!
Дверь в нашу спальню была приоткрыта. Даже не приоткрыта, а просто в ней была щель. Не отправилась ли Киттредж искать меня? Что-то не похоже. Скорее, она немного смилостивилась и отодвинула задвижку. Это, конечно, не означало, что меня там ждут.
Еще не войдя в комнату, я услышал, что она разговаривает. Не разбирая слов, только по звучанию ее голоса, громкому и слегка бесстрастному, как в беседе с глухим, я уже знал, что она разговаривает со стеной. И надеялся, что она обращается к своей матери, — надеялся столь пылко, что даже увидел перед собой Мэйзи Майнот Гардинер, седовласую, с крепкими белыми зубами и голосом как у попугая, какой часто бывает у изысканных дам (словно они и подумать не могут о том, чтобы произнести первыми какую-то фразу, а не вслед за кем-то, — внимание к этому феномену впервые привлекли звуки, вылетавшие из горла Элеоноры Рузвельт).
Глаза у матери Киттредж были сиреневато-голубые, как те гибриды, что росли в ее саду. Я знал названия диких цветов, но Мэйзи интересовали лишь совершенно новые сорта. Она выращивала высоченные цветы — суперциннии в четыре и пять футов высотой, фантастически яркие. Если бы поставить в саду Мэйзи на мольберте картину Боннара, его краски померкли бы перед ее цветами. В темные дни цветы эти раскачивались по собственной прихоти, как и Мэйзи. Она славилась своей наглостью. «Гарри, — могла она сказать, — не опростоволосься с французами: им просто нельзя доверять».
Да, я молился, чтобы Киттредж разговаривала с Мэйзи, но знал, что это не так.
— Никуда, — услышал я голос моей жены, — я за тобой не последую. Я чуть прикоснулся к двери — и она открылась. Все было так, как я и ожидал. Вернее, много хуже. Киттредж сидела в кресле лицом к стене. На ней была белая ночная рубашка — не белее кожи, отчего она казалась одновременно обнаженной и закутанной с головой. Волосы ее выглядели более черными и блестящими, чем когда-либо, а глаза не были затуманены. Они горели. Бывает такое, что голубые глаза горят в не слишком ярко освещенной спальне, но я мог бы поклясться, что в тот момент они горели, освещенные внутренним огнем. Киттредж явно не замечала меня.
— Хью, я тебя предупреждала, — громко говорила она, — я молилась за тебя. Теперь я свободна. Я не пойду следом за тобой из этого дома.
Когда такое произошло вскоре после того, как мы поженились, и я впервые услышал, что Киттредж разговаривает со своей матерью, я совершил ошибку: позвонил из Доуна в Маклин, штат Виргиния, где у психиатра, работавшего по контракту на ЦРУ, был кабинет. Киттредж с большим трудом меня простила.
И дело было не в ущербе, который я нанес ее (да и своей) карьере, ибо это обстоятельство было теперь записано в ее деле, — это было наименее существенной частью моей ошибки. Киттредж не могла мне простить неуважения к ее чувствам. «Я люблю маму, — сказала она тогда мне, — и это такая милость Божия, что я могу беседовать с ней. Неужели ты не понимаешь? Звонить доктору было излишне. Гарри, если ты попытаешься еще раз совершить такой варварский поступок, я решу, что мы с тобой не подходим друг другу. Ты же назвал мой дар недугом».
Ей не пришлось мне это повторять. Я постарался залатать разорванное звено. Я ведь говорил с психиатром всего один раз. Когда он позвонил снова, чтобы узнать, как обстоят дела, я сказал, что мы с Киттредж тогда много выпили — вещь крайне для нас нехарактерная, сказал я, — и она в опьянении повела себя иначе, чем я. Так я это изобразил и добавил: «В конце-то концов, доктор, человек имеет право отклониться в своем поведении на квадрант или около того, когда умирает близкий родственник».
«Назовем это на четверть или около того», — сказал он, и мы оба поспешили рассмеяться, сначала гармонично, а потом контрапунктом. Почему деланный смех звучит музыкальнее, чем настоящий?
Ущерб, нанесенный карьере моей жены, свелся к записи в ее «Деле № 201»: «Обращение к психиатру 19 мая 1975 г.». Учитывая, сколько у нас алкоголиков, людей разведенных и раскрытых гомосексуалистов (уверен, не больше, чем в потогонной корпорации), я надеялся, что эта запись не причинит настоящего ущерба. Однако я знал, что скаты становятся скользкими. Наш брак произвел в управлении не меньший скандал, чем когда майор удирает с генеральской женой.
Все это может служить объяснением, почему я ходил сейчас вокруг кресла Киттредж словно вокруг святыни. Можете не сомневаться: я не бросился за водой, чтобы плеснуть ей в лицо, не стал растирать ей ноги, не думал о том, чтобы встряхнуть ее или хотя бы до нее дотронуться. Невзирая на привычку овладевать ситуацией, я вынужден был сидеть и ждать.
Она надолго застыла. Потом начала кивать. И сказала, обращаясь к стене:
— Гозвик, ты никогда не мог заставить себя признаться ни единой живой душе. Но мне-то ты можешь сказать. Если ты считаешь, дорогой, это важным, может быть, все-таки надо сказать.
Это походило на разговор полицейского с человеком, который собирается спрыгнуть с крыши, а полицейский пытается его отговорить. Тогда такой диалог звучит, наверно, естественно. Киттредж говорила со стеной так, будто там, вне всяких сомнений, находился Проститутка. Признаюсь, вскоре это перестало казаться мне чем-то из ряда вон выходящим. Страстность призывов Киттредж ничего не меняла в атмосфере нашей спальни, слишком аскетичной, на мой вкус, слишком похожей на комнату второго этажа в хорошей гостинице Новой Англии — даже белые оборки на покрывале выглядели профессионально непорочными. Когда Киттредж умолкала, комната снова погружалась в белую нерушимую тишину.
— Гарри, ё-моё, убирайся отсюда, слышишь?
На протяжении нашей совместной жизни она очень редко употребляла ругательства. Но и сейчас я не был уверен, что это она его произнесла. Может быть, это голос Проститутки звучал из ее горла?
Киттредж пригнулась в своем кресле.
— Ты весь в водорослях, — громко произнесла она. — Ох, Гозвик, да сбрось же их. Ты точно в парике.
Она громко засмеялась почти мужским голосом и продолжала смеяться, но постепенно смех становился, несомненно, теплее. Иные мужчины так смеются, точно все вокруг создано для них — и уголья тлеют для них в камине, и хорошая гаванская сигара завернута в листья табака для них. «Боже мой, — подумал я, — она же смеется совсем как мой отец». Затем на лице ее появилось выражение, напомнившее мне Аллена Даллеса, ушедшего от нас, как и мой отец.
Однажды во Вьетнаме, после пьянки в Универсальном Магазине (так мы называли самый большой бордель в Сайгоне), я закончил вечер в номере гостиницы с молоденькой крошечной проституткой-вьетнамкой, снабдившей меня опиумом. Я выкурил трубку с сильным чувством греха и во искупление выбросил из себя весь ужин. А потом на меня снизошел покой, навеянный трубкой, и начались галлюцинации. Лицо девки стало лицом моей матери, а потом лицом Киттредж, в которую я был издали влюблен. Через некоторое время я уже мог превращать лицо вьетнамской проститутки в лицо любой женщины по моему выбору.
В нашей же спальне я не мог подобрать лицо, которое хотел бы увидеть, да и не было у меня счастливой уверенности, что я парю в облаках галлюцинации, которой могу управлять. Скорее наоборот: каждое новое лицо появлялось передо мной, словно кто-то лепил его. Над нежной верхней губой Киттредж появилась щеточка черных с проседью усиков Проститутки. На носу возникли его очки в металлической оправе, а вместо пышной копны волос засияла большая залысина, и Проститутка уставился на меня. И заговорил. Голос исходил изо рта Киттредж, но вполне мог принадлежать ему: «Ты обнаружишь это, Гарри. Она — законченная лгунья».
Усики исчезли вместе с очками. На голове Киттредж снова была копна черных волос. Она заплакала:
— Гозвик, возьми меня с собой. Мне здесь одиноко.
Горе ее скоро прошло. Как у ребенка, быстро переходящего от одного настроения к другому, на ее лице появилось новое выражение — плотоядная ухмылка. Такое лицо могло быть только у Хлои — эта ухмылка говорила: приди в мои владения. Рот Хлои кривился так, лишь когда лежишь рядом голый и враг рода человеческого уже раздвигает складочки кожи, — игрушки вот-вот засверкают на елке. И ты наконец выбросишь все из себя!
Странные импульсы пробудились во мне. Идешь по проспекту и вдруг чувствуешь желание свернуть в боковую улочку — такой импульс возникает нередко. По всей вероятности, исходит он от тебя самого. А здесь я не сомневался. То, что меня толкало, исходило не от меня. Я был подобен кусочку железа, передвигающемуся по тарелке под влиянием магнитов, которые переставляют под ней. Эти магниты всемогущи, как боги. То, что периодически толкало меня к двери трейлера Хлои, сейчас побуждало овладеть моей женой. Внизу у меня проснулся дикий козел похоти. Неудержимое желание трахаться, владевшее мной и Хлоей, снова запылало во мне. Но я не могу признаться в этой мысли. Я стал холоднее Проститутки — мне хотелось затащить Киттредж в Бункер.