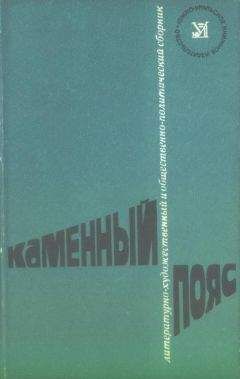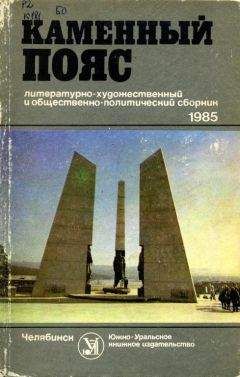Профессор Грачев, откинув полированную доску, служащую крохотным удобным столиком, быстро записывал дополнения, даваемые японскими коллегами из всемирно известной фирмы «Тодзио», которые звучали сейчас в наушниках на английском языке. Он переводил их сразу, скосив чуть вопросительный взор на своего аспиранта Зданевича, контролировавшего правильность текста по английскому офсетному буклету с яркими рекламными снимками, розданному участникам конгресса только что в перерыве. Грачев, скользя золотым пером по бумаге блокнота, с удовлетворением и азартом убеждался, что предсказанные им несколько лет назад прогнозы сбываются. Японцы уже пустили стотонные конверторы на кислородном дутье с осевым вращением, ловко обойдя действующие американские и советские патенты за счет незначительных изменений схемы разливки. Невиданный рывок, совершенный ими за последние три года, опрокидывал все представления об этой крошечной островной стране, как второразрядной державе в мире стали. Не имея собственной руды, угля, флюсов, они давали баснословно дешевую сталь высоких прочностных показателей, о чем взахлеб расписывал их добротно сделанный буклет с улыбающимися рекламными старцами возле желто-лимонных ковшей, Одного из творцов, запечатленного в пластмассовой оранжевой каскетке и в скромном синем рабочем кителе на снимке, Грачев знал. Это был Токаси Оно-сан, профессор и директор фирмы «Тодзио», умело сочетавший в себе качества дельца и ученого. Совладелец трех десятков металлургических заводов сейчас приятельски улыбался ему из соседнего ряда, показывая пальцами, что им, партнерам по науке, есть о чем поговорить после финиша конгресса.
Грачеву, чьи лицензии в прошлом году были куплены наконец после долгих торгов и взаимных уступок рядом шведских, японских и итальянских фирм, тоже хотелось вплотную познакомиться с подвижным, улыбающимся японцем, на лацкане пиджака которого среди прочих, виднелся скромный, чуть аляповатый значок его родного города. «О, колоссально! Раскислители профессора Грачева — это наш двойной секрет, — похлопывал его при первой встрече Токаси Оно-сан, — дубль-секрет…» И японец, блестя роговыми очками и матовой обтягивающей скулы кожей, откровенно улыбался, вызывая у Грачева смешанное чувство опасения и польщенного самолюбия.
Секретарь конгресса, жердеподобный англичанин с длинным лицом и тусклыми платиновыми коронками, долго зачитывал тексты поправок, держа вытянутый палец в знак внимания, потом уступил место председателю академику Страбахину, от имени советской делегации поблагодарившему гостей за участие и коротко пригласившему желающих поехать на экскурсию по заводам и фабрикам и примечательным местам столицы. В конце он сказал, что материалы конгресса будут высланы участникам не позднее чем через две-три недели.
— Вот это темпы! — не выдержав, шепнул шефу Зданевич, имея в виду, что в институте печатные сборники «варились» по году-два. — Это же надо перевести, отредактировать, дать иллюстрации!..
— Столица все может, Юра, — захлопывая блокнот, отпарировал Грачев, — ты лучше скажи, в министерстве был? Как с нашей программой?
Юрий Викторович Зданевич на внешний вид был тщедушный человек, с впалой грудью, белесыми, красноватыми от занятий в библиотеке, веками, оттопыренными ушами на стриженной ежиком голове. Однако в нем скрывалась редкая способность входить в контакт с людьми разных возрастов и положений. Умел хитростью, льстивостью возбудить к себе доверие людей, учить их «уму-разуму», понося огрехи академической чистой науки, ее оторванность от жизни. Причем Зданевич охотно соглашался, подсказывал досадные примеры, сетуя на собственный, незначительный, якобы, опыт в этой отрасли.
Производственники свысока благоволили к такому «книжному червю», который «по оплошности» снабжал их вычитанной идейкой или простодушным советом. Зычным цеховикам претила обычная самоуверенность деятелей от науки, Зданевич же тихо «обвораживал» их своим самоуничижением, с полгода-год будучи их желанной дойной коровой по части придумок. Потом, под налаженный контакт, появлялся Грачев или его сотрудники, и оказывалось, что внедрение было частью общей институтской тематики, и заводу следовало бы раскошелиться, оплачивая авторские права, но лучше — и тут все соглашались — лучше идти на крепкий контакт с наукой, столь славно оправдавшей себя даже в малом.
Поэтому именно Зданевича взял с собой на конгресс Грачев, поручив ему довести до конца деликатное дело подписи и утверждения учебных планов потока, фактически существующего два года. Была, правда, устная договоренность с начальником отдела, устное «добро» от одного из замминистров, но до подлинного утверждения в текучке канцелярщины пока дело не дошло. А ведь к марту люди выходили на дипломы — реальные, качественные дипломы, выстраданные авторами на двести процентов. Грачев беспокоился за судьбу своего детища и потому с надеждой повторил вопрос понятливому Зданевичу.
— Видите ли, Стальрев Никанорович, Запольский в отпуске, а референт Гудкова третий день возит иностранную делегацию по вузам. Я наводил справки: «де-факто» — резолюции нет. Я, правда, раскопал интересный документ — «Положение о рабфаках» тридцать восьмого года, там есть абзац…
— Ты мне не крути. Запольский, может, за три года уехал отпуск использовать. С ним по телефону не поговоришь. Сколько тебе дней еще надо, продлевай командировку, но дело доводи.
— Но, может быть, использовать этот абзац как аргумент? Его никто не отменял, я в «Сводном томе приказов по высшей школе» сверялся…
— Кто мне дипломы выдавать разрешит, чудак? Мне людям документы выдавать пора, а ты архивы листаешь. Чтобы подпись к январю была — хоть встречай Новый год на письменном столе у Запольского. Понял?
— Понял, Стальрев Никанорович. Я вот еще… насчет японца.
— Давай. Есть идея?
— Он у нас мог бы обработку шлаком в полглаза взглянуть, а?
Обработка синтетическим шлаком стали после разливки в ковше была только что внедренной на опытном участке ХМЗ идеей диссертации Зданевича. Грачев был ее соавтор, хотя и стоял, не чинясь, в авторском свидетельстве вторым. Он понимал, что молодой человек жаждет признания и быстрого результата, но хлопоты по предыдущим лицензиям охладили его пыл.
— Ты, Юрий Викторович, знаешь, для чего они лицензии покупают? Чтобы потом их обходить, пока мы долдоним рекламу в ихней державе. Все рассусолим — они и рады.
— А я загадкой ему, Стальрев Никанорович, «ноу хау» — ни слова, а эффект, подготовку — как в американском бриффитце. Не может быть, чтобы он не загорелся — он же «Ванадий в конверторном производстве» написал. Читали?
— Читать-то читал. Это тебе не цеховой комполка — это ученый. Они, знаешь, как американцам нос утирают? Патенты скупили, повысили квалификацию — и дуют дальше. Нет, Юра, подожди. Поговорим в «Металлургимпорте»…
И Грачев с ответной напускной улыбкой встал навстречу осклабленному всеми тридцатью золотыми зубами японскому коллеге, быстро говорящему что-то на английском языке…
IIIЗаведующий кафедрой Николай Иванович Кирпотин уже полгода исполнял обязанности профессора строительной механики, или по-старому — был экстраординарным профессором. Это звание возвышало его в собственных глазах, и он снисходительно смотрел сквозь пальцы на чудачества жены, которую одолела мания приобретательства, какого-то фанатического поклонения полированным гарнитурам, трельяжам, румынским креслам и чешскому искусственному хрусталю. Измученная одиночеством тридцатилетняя женщина, которую он застал в комнатке итээровского общежития, теперь превратилась в завсегдатая комиссионных и мебельных магазинов, с решительными манерами покупательницы, знающей, как и от кого нужно получить требуемую записку, кому позвонить в случае треснутого фигурного стекла и с кого спросить, если импортные костюмы, по слухам, завезены на базу. Сам Кирпотин предпочитал не входить в мелочи, с удовольствием, однако, облачаясь по утрам в теплое, фасонной вязки, трикотажное импортное белье, или устраиваясь по вечерам для чтения возле немыслимо-роскошной, с тройной подсветкой немецкой настольной лампы. Его грустно волновала одна только мысль, журчащая словно протекший кран в ванной, — хорошо бы остепениться… Тогда круговорот его жизни, полной бескорыстного и терпеливого служения науке, вопреки всем соблазнам и искушениям перед легкими путями, был бы замкнут не только в собственных глазах, но и во мнении всех окружающих.
Однако Кирпотин печально сознавал, что написать диссертацию под шестьдесят лет он уже не в силах, и, хотя взоры его иногда обращались к буйной тридцатилетней молодежи, заполнявшей все вакантные должности на кафедре, было фактом, что он так и не завоевал у них должной почтительности и уважения, позволивших бы ему соединить свой огромный педагогический опыт с напористостью и энергией какого-либо молодого покладистого ассистента. Он знал, что в своей среде эти юнцы, не знавшие ни войны, ни эвакуации, ни мизерных инженерных пайков, потешались над его чопорностью, деликатными манерами и неумением показать власть там, где это ожидалось и приветствовалось бы. Его не ставили ни в грош, когда добивались квартир или путевок в дома отдыха, его игнорировали, шумно обсуждая литературные новинки или театральные премьеры, его не приглашали на новоселья и рождения бесчисленных Марианн, Элеонор и Русланов, которыми обрастала буйная неоперившаяся кафедра. Пропасть, разделявшая его и молодежь, продолжала осязаемо существовать даже на заседаниях кафедры, где его распоряжения встречались молчанием, а распределение учебных часов — ироничными улыбками.