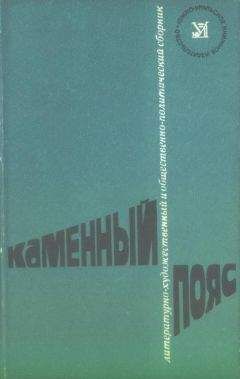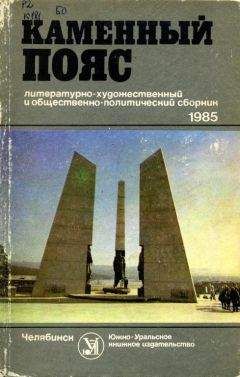Однако Кирпотин печально сознавал, что написать диссертацию под шестьдесят лет он уже не в силах, и, хотя взоры его иногда обращались к буйной тридцатилетней молодежи, заполнявшей все вакантные должности на кафедре, было фактом, что он так и не завоевал у них должной почтительности и уважения, позволивших бы ему соединить свой огромный педагогический опыт с напористостью и энергией какого-либо молодого покладистого ассистента. Он знал, что в своей среде эти юнцы, не знавшие ни войны, ни эвакуации, ни мизерных инженерных пайков, потешались над его чопорностью, деликатными манерами и неумением показать власть там, где это ожидалось и приветствовалось бы. Его не ставили ни в грош, когда добивались квартир или путевок в дома отдыха, его игнорировали, шумно обсуждая литературные новинки или театральные премьеры, его не приглашали на новоселья и рождения бесчисленных Марианн, Элеонор и Русланов, которыми обрастала буйная неоперившаяся кафедра. Пропасть, разделявшая его и молодежь, продолжала осязаемо существовать даже на заседаниях кафедры, где его распоряжения встречались молчанием, а распределение учебных часов — ироничными улыбками.
Однако Кирпотин стоически нес свой крест, по конспектам читая положенные лекции, долгими вечерами овладевая задачами по строительной специфике, читая положенные журналы и литературу. Он даже опубликовал несколько статей, рассчитывая этим привлечь внимание к новой специальности института, и с удовольствием принимал участие в заседаниях городского совета научно-технического общества, где мало знали о его трениях на кафедре или в вузе. Словом, он притерпелся к некоторым неудобствам, связанным с руководящим постом, и скромно пользовался благами своего повышения. Только одно смущало его в эти два года — руководство особым потоком строителей, созданным по приказу ректора под его началом. Дело было не в том, что он сознавал себя недостаточно компетентным в общем руководстве учебных программ, ибо контакт с Кукшей, умело сократившем математические курсы, обеспечивал сносное усвоение материала добросовестными прорабами и начальниками участков, а в том, что вокруг этого дела шла непонятная для него скрытная деятельность, выражавшаяся в непрестанных указаниях, личных записках, просьбах о перенесении проектов и зачетов, которым он не мог не внимать, будучи слишком обязанным ректору и декану. Эта раздвоенность между природной, привычной щепетильностью и постоянными уступками изматывали его, заставляя все чаще прибегать по ночам к валерьянке, настою пустырника и прочим успокаивающим средствам. Необычайно волновало его кроткий ум и неопределенность правового статуса потока производственников, хотя уже год Грачев обещал представить подписанные в министерстве учебные планы, составленные Кирпотиным с присущей ему скрупулезностью и добросовестностью.
Но сегодня, на исходе декабря, Кирпотин был настроен более оптимистически: ректор улетел в столицу, имея твердое намерение довести дело до конца, а такому человеку он не мог не верить, и к тому же поток успешно сдавал последнюю сессию, вызывая одобрение специальных кафедр основательностью знаний и усердием взрослых, отвыкших от учебы людей. Некоторые из них были Кирпотину откровенно симпатичны, и среди них экстраординарный профессор находил успокоение своим нервам и заботам, встречая сочувствие и понимание. Он даже жалел, что скоро расстанется с этими угловатыми, прокуренными в заседаниях и на планерках, людьми, бронзовыми от постоянного пребывания на воздухе и недоверчиво скептичными во всем, что не касалось их личного, выстраданного опыта. Человек пять так и не сдали минимум задач, и он решал их с ними вместе, по шагам разбирая формулы и уравнения, и от этого они были ему еще ближе, как-то роднее, чем сотни, тысячи прошедших через его экзамен людей. Главный инженер треста Задорин так и сказал, грубовато-властно скрипя за узким для него учебным столом: «Вы, Николай Иванович, наш царь и бог. Хотите — помилуйте, хотите — голову с плеч… Но мы вам навеки благодарны. Теперь мы — сила…»
И Кирпотин с грустной улыбкой вспоминал проницательные, усталые глаза Задорина, измаянного уравнениями и собственным возрастом. Разве он сам, Кирпотин, не так же упустил свое в жизни и теперь пытается догнать упущенное? Разве справедливо, что годы уходят, как песок в воронку, и их нельзя повернуть вспять, как песочные часы, что, живя рядом с дочерью, он чувствует себя немощным стариком, бессильным понять стремления и желания юности.
Тут Николай Иванович, который сидел на табурете, подобрав ноги на перекладинку, и сбивал пружинкой крем для торта, остановил свое движение и тихо спросил жену:
— От Оли писем нет?
— Ты же знаешь, она не любит писать. Было одно в начале месяца и — ладно. Телеграмму тебе на Новый год пришлет — радуйся.
Жена чародействовала возле духовки, собираясь поразить гостей — Кукшу с супругой — многослойным тортом из песочных с орехами сочней. Торт должен был сутки стоять, пропитываясь кремом, и поэтому делался заранее. К отъезду Оли и ее раннему замужеству она отнеслась спокойно, как, впрочем, и ко всему, происшедшему с дочерью за два года… Встретила, полюбила.
Кирпотина поражала эта хладнокровность жены, ее нежелание выслушивать его опасения, недоуменные вопросы о дочери, которую он, оказывается, совсем не знал и ничего подобного не ожидал от девочки, воспитанной в ухоженной семье, такой способной в школе и даже талантливой в математике. Суетливые фразы мужа раздражали супругу, и она, может быть, храня в памяти свою, никому не известную юность, резко отвечала: «Дай ты ей перебеситься! Ведь она у меня после бабьего века родилась — как ей нормальной быть. И я не в пансионе росла…» И Даша Широкова, мечтательно закрывая глаза, уходила от Кирпотина в тайные дни молодости, влюбленности и отчаянного безрассудства…
IVТерентий всегда мучался, закрывая месячные наряды. Обилие скрытых работ, утечка материалов, прогулы рабочих по причине выпивки угнетали его своей железной необходимостью все учесть, никого не обидеть и сдать подписанные бланки для строгой проверки в бухгалтерию правления. Ему казалось, что в работе мастера открывается необозримое поле для подвохов, нечистых махинаций и плутовства, чего он смертельно боялся. У него — мастера отдаленного, заброшенного в пустынную степь строительного участка, студента-заочника третьего курса и главы семейства — не оставалось никаких иллюзий на свою исключительность, какую-то деловую изворотливость или уменье выйти сухим из воды. Окруженный, как ему казалось, грубыми, недалекими людьми, приехавшими сюда ради крупных заработков или от неумения жить в порядочных городах, он держался, как за спасительный якорь, за свою честность, изводившую его необходимостью быть компетентным во всех вопросах снабжения стройки, ее технической документации и даже квалификации людей.
Больше года прошло, как они с Олей — мечущиеся, упрекающие друг друга в эгоизме, бездомные и с крохотным ребенком на руках — очутились здесь в Оренбургских степях, где на пологом холме, среди унылого ковыля и чернобыла, вырастало крутобокое, ракетообразное здание элеватора. Округлые цементные его банки темнели от осенних, почти полого идущих под ветром, дождей, торчащие штыри арматуры тоскливо пели во время вынужденных простоев в зимние недельные бураны, в мае не хватало привозной издалека воды, чтобы выдержать влажностный режим монолита, сохнущего под аспидно-жестоким солнцем.
Степь выгорала уже к июню, становясь подобно пегой короткой лошадиной шерсти на склонах холмов, и только в редких лощинах рек, в ивовых и ольховых уремах, зеленела листва, пели переливчатые соловьи и малиновки, вызывая у молодых людей горькое чувство обиды на жизнь, на раннюю взрослость и невозможность просто так, беззаботно побродить по земле, глядя в легкие перистые облака или на летящие в немыслимую даль самолеты. Жили молодые в полевом вагончике, утепленном штукатуркой на драни и земляной завалинкой, грелись от чугунной времянки с длинной трубой под потолком, на которой сушилось зимой детское белье — ползунки, распашонки, подгузники. На разговоры было мало времени: Терентий, смертельно осунувшись, зло занимался по вечерам, посылая работы с нарочным на ближайшую железнодорожную ветку, а Оля, умаявшись от стирки, глажения, доения козы Машки и прогулок с Настей, спала беспокойным материнским сном.
Была во всей их теперешней жизни какая-то обидная скрытность, недоговоренность, которая делала хрупкими их редкие минуты близости и согласия. Терентия особенно угнетала его незащищенность, резкие упреки наезжающего на пыльном газике главного инженера управления Кирьянова — мутноглазого, нагло-развязного, от которого пахло всегда «орчанкой», как здесь называли водку. Не вылезая из машины, Кирьянов окидывал взглядом медленно растущие емкости с брезентовыми пологами в зоне бетонирования, обивал прутиком грязные, не чищенные никогда сапоги, сопел, поводя широкими черными ноздрями с вылезающими кустами волос, и произносил: «Блох ловишь, студент? Зачеты сдаешь по почте?»