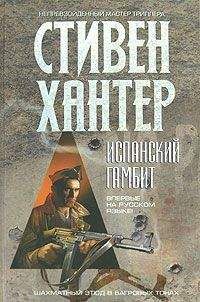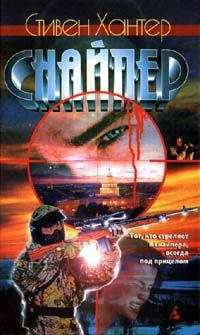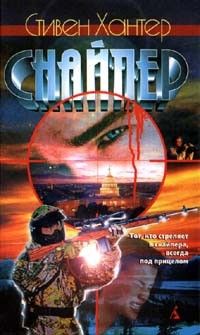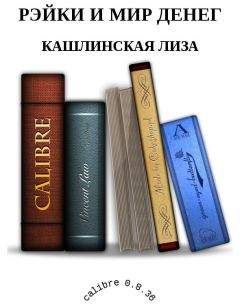– Вот вы где. – К ним направлялся граф Витте. – Мне сейчас пришлось выдержать неприятную стычку с этим Грюнвальдом. Этот тип совершенно пьян. От него несет, как из бочки шнапса. Взялся вынести наверх мой чемодан и сильно повредил его. Это досадно.
Флорри повернулся.
– Вообще-то он совершенно безобиден. Пользы от него, разумеется, никакой, но и вреда нет.
– Но я говорю вам… О, прошу прощения, я вам не помешал? Не хотел вторгаться в вашу беседу.
– Нет-нет, ничего, – вежливо сказал Флорри.
– Боюсь, что все-таки помешал. Я вижу это по недовольному лицу мисс Лиллифорд. Немедленно ретируюсь.
– Прошу вас, граф Витте. Наша беседа может подождать, у мистера Флорри будет уйма времени для бесед со мной. Оставайтесь с нами, посмотрим, как корабль входит в гавань.
– Действительно, не уходите, граф.
– Пожалуй. Хоть знаменитая английская вежливость и оставляет меня в неведении относительно того, не лишний ли я в вашей беседе, но я остаюсь. Да. Знаете, мы непременно должны как-нибудь на этой неделе вместе пообедать. В Барселоне прежде славилось несколько чудесных ресторанов, но теперь я буду удивлен, если революционный народ, руководствуясь соображениями всеобщего равенства, не прикрыл их. Только…
Поразительно, но в эту минуту вдруг хлынул дождь!
Флорри отчетливо почувствовал, что воздух стал вдруг жидким и текучим, а затем, довольно странно, все звуки исчезли с лица земли – и плеск волны у носа парохода, и скрип и стоны старого двигателя, и болтовня арабов глубоко внутри судна.
Или нет, как раз звук-то остался. Ничего, кроме звука, не было на свете, он громом гремел в их ушах. Звук и ставший жидким воздух, звук и вода, звук и хаос.
Потрясение докатилось до самых недр корабля. Его до сих пор полное согласие с сияющей поверхностью моря стало круто меняться: палуба, которая казалась надежной, как сама земля, вдруг вздрогнула раненым зверем. Флорри на миг припомнил того умирающего слона, которого он однажды видел. В тот самый момент, когда животного настигла пуля, каждая линия огромного тела так резко надломилась, будто на нем возник отпечаток неизбежности скорой гибели.
Флорри стоял, уцепившись за поручни, и изо всех сил старался понять, что происходит. Кругом грохот и вода. Мокрое платье нескромно облепило Сильвию, у которой на лице белым пламенем полыхал отчаянный страх. Граф Витте, кулдыкающий что-то невнятное, как старая птица под занесенным топором. Прыгающая челюсть отвисла, штопор мокрых, завившихся в колечки волос, монокль, болтающийся из стороны в сторону. Вдруг раскатом грянул шум безумных, завывающих криков, смешавших турецкий, арабский, средиземноморские диалекты в одну невообразимую неразбериху.
Флорри, в первую секунду охваченный ледяным спокойствием, которое на самом деле было зародышем паники, вдруг почувствовал, что палуба странным образом стала резко смещаться.
«Мы тонем, – мгновенно догадался он. – Тонем».
В поздний час той же ночи майор Холли-Браунинг сидел за стаканом чая в своем крохотном кабинете. Каморка располагалась на пятом этаже Бродвей-Хаус в загончике, куда выходила еще только лестница черного хода. Сейчас помещение больше напоминало редакцию какого-нибудь журнала, чем резиденцию шпионов. Все было завалено бесчисленным множеством книг и поэтических брошюр, подшивками газетных вырезок – глянцевыми и не очень, – ежеквартальными литературными изданиями, репродукциями художников, докладными записками университетских преподавателей, протоколами собраний давно забытых политических сборищ выпускников, листовками, объявлениями. Они были выпущены после 1931 года и относились к Кембриджскому университету.
Там, где другой, более доброжелательный читатель мог бы предсказать появление нового поколения молодых голосов, пробующих сказать что-то свое и быть услышанными, майор Холли-Браунинг видел лишь претенциозную болтовню. Тексты напоминали ему бессмысленное причитание ярмарочных зазывал, заманивающих в лабиринт, выход из которого навсегда отделен от входа. Их тайный язык, напыщенный стиль этих томных эстетов внушал майору, помимо всего прочего, глубокую меланхолию.
Он знал, отцы многих из этих юных придурков погибли на Первой мировой, срезанные огнем немецких пулеметов, разорванные залпами крупповских пушек, изувеченные иззубренными штыками бошей. Их легкие съежились и почернели от горчичных газов. И ради чего? Ради вот этого? «В недосягаемых пределах цветет твой прах»? Ради «Ноктюрна в пепельных тонах»? Или «Новой теории испанского радикализма»? «Литании пацифиста»? А может быть, ради знаменитого стихотворения ненавистного ему Джулиана Рейнса «Ахилл, глупец»?
Последнее, впервые опубликованное в февральском номере «Зрителя» – идиотской мейсонской пачкотни – за 1931 год и позже ставшее названием единственного стихотворного сборника Джулиана, изданного Хайнеманном в ноябре того же года, никогда не выходило у майора из головы. Он мог бы декламировать его наизусть.
Ахилл, глупец, железо разорвало
Тебе всю грудь. И твой предсмертный крик
Кровавой пеной легких разбросало
По проволоке колючей в тот же миг.
Но мы – другие. Шкура нам дороже.
Нам истина последняя дана:
В конечном счете все одно и то же.
В конечном счете жизнь – лишь игра.
Отец Джулиана погиб на Сомме во время атаки, намертво пойманный колючей проволокой. Он умирал весь день. Майор сам слышал, как несколько часов, перекрывая грохот артиллерийской канонады, кричал капитан Бэзил Рейнс. Нет, он не молил о помощи. Надрываясь, он запрещал своим людям пытаться спасти его, зная, что их всех сметет огнем в первую же минуту вылазки.
Майор осторожно потрогал переносицу, от мигрени ставшую ужасно чувствительной.
– Могу быть полезен, сэр?
– Вейн, вы еще не ушли? Тогда, может быть, вы спуститесь к связистам и узнаете, вошло ли в порт Барселоны судно Флорри? Сэмпсон обещал держать нас в курсе.
Вейн бесшумно выскользнул, а майор вернулся к морю бумаг, лежавших перед ним. Уже давно он с упорством настоящего бульдога перелопатил их все. И это не доставило ему ни малейшего удовольствия. Теперь он мог бы считаться экспертом по культуре. Начиная с 1931 года он подробно изучил все ее направления и тенденции, ее пацифизм и идеологию, талантливость и тайный конформизм. Но лучше всего он изучил бежавшую по самому ее дну измену.
Да, измена была налицо. Сам политический климат буквально взывал к ней. Послевоенная эйфория давно угасла, а со спадом экономики расцвела некая уязвленность общества, уязвленность сомневающаяся. Вошло в моду демонстративное упадничество. Приветствовалось сексуальное разнообразие. И как всегда, самыми худшими оказались наиболее талантливые: утонченные эстеты, интеллектуалы, эрудиты, путешественники. Каждый из них во всю мочь трубил о русской революции. Кляли почем зря родную страну. Они попросту – крикливо и в открытую – ненавидели ее, как ни одно поколение до них за всю историю Англии. Они ненавидели самодовольство и чопорность и даже то, что страна, балуя их, не могла накормить своих бедняков. Само существование нищеты для них являлось априорным доказательством коррумпированности общества. Зато обожали этого коренастого палача Кобу, который топором мясника кроил рабочий парадиз. Именно это в конце концов больше всего возмущало майора: их искусственный, насильный, добровольный самообман.
Холли-Браунинг положил руки на пачку бумаг перед собой. Все было здесь. Он это раскопал, выбрал кусочек за кусочком и сложил, как мастера-мозаичисты выкладывают свои картины, в которых одна частица бессмысленна, а целое – изображает все.
Свидетельство было неопровержимым. Даты, места встреч, донесения. Казалось, что Левицкий, который всю жизнь прожил с максимальной настороженностью, в Кембридже, в 1931 году, как с цепи сорвался. Он безудержно бахвалился своим презрением к нашей ленивой системе безопасности, усыпляющим национальным иллюзиям и набожной тупости.
Его первой неудачей было подстроенное британской службой столкновение с мелким клерком из Форин-офиса[19] в феврале тридцать первого. С тех пор он был идентифицирован как большевистский агент. Но ошибочно отнесен к самым некомпетентным, малозначащим работникам из-за неуклюжести его заходов. В течение следующих семи месяцев за ним прилежно наблюдали, проводя халтурную рабочую слежку, которой некогда отличался Пятый отдел. А потом Левицкий покинул страну, отбыв в края неизвестные. Его, так сказать, тайной любовью, как установили в МИ-6, был Кембридж, куда он неукоснительно наведывался в течение полных семи месяцев. Было ясно, что он за кем-то охотится. Но за кем? Где бывает? Ответы на эти вопросы можно было бы получить за одно-единственное воскресенье, отрядив в Кембридж одного-единственного сыщика.