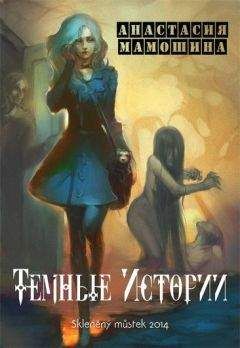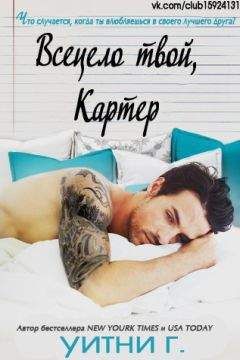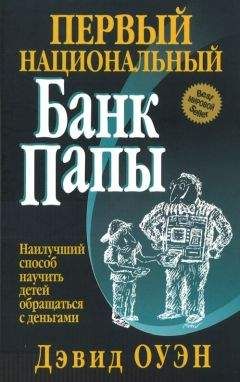— Привет, — сказал Хофман. — Какая встреча!
— Уходите, — ответила она и быстро оглянулась вокруг — не видит ли их кто-нибудь. Если не считать женщины, сидевшей на скамейке и слушавшей свой «Сони Уолкмэн», да школьника-пакистанца, игравшего с футбольным мячом, они были одни. Ее взгляд снова остановился на Хофмане; теперь в нем сверкал скорее гнев, чем страх. — Вам нельзя было этого делать. Я не могу разговаривать с вами. — Она резко повернулась и быстро пошла дальше по направлению к Парк-Лейн.
— Эй, погодите же минутку. — Хофману пришлось бежать, чтобы догнать ее. — Мне нужно вам кое-что сказать. — Он попытался взять ее за руку, но она отдернула ее.
— Я не могу, — сердито сказала она. — Здесь опасно, могут увидеть.
Хофман обвел взглядом склон холма и показал на его вершину, где в закрытом от глаз малолюдном уголке находилась сторожка смотрителя парка.
— Там нас не увидят, — сказал он. — Всего на несколько минут, правда. Нам надо поговорить.
Лина внимательно посмотрела в том направлении. Кажется, там никого не было, но знать наверняка было нельзя. Хофману удалось взять ее за руку, и они молча пошли в сторону узкой ложбинки, через каждые несколько шагов оборачиваясь, чтобы убедиться, что никто не идет следом. Войдя в густой кустарник, Хофман остановился и повернулся к ней.
— Мне необходимо было вас увидеть, — начал он, — чтобы предупредить о вашем боссе, Хаммуде. Он опасен.
Она скептически посмотрела на него.
— Да что вы говорите! Хаммуд опасен? Какая интересная мысль! — Она встряхнула головой.
— Я серьезно, — сказал Хофман. — Вы помните филиппинца, приходившего ко мне по поводу жены? Он исчез. Мне позвонили из посольства и сказали, что он уехал домой и больше не нуждается в моей помощи, но это ложь. Я думаю, Хаммуд велел убить его только за то, что он пришел ко мне. Теперь я волнуюсь, что они пойдут за вами.
— Они уже шли, — ответила Лина ледяным голосом. — Как вы не понимаете? — Она двинулась дальше, к островку деревьев и кустарников, образующих естественное укрытие. Хофман последовал за ней.
— Когда? — спросил он.
— После вечеринки у Дарвишей. Начальник службы безопасности предупредил меня насчет контактов с иностранцами. Кажется, он вас знает.
— Что вы ему сказали?
— Правду. Я сказала, что не виделась с вами раньше и не имею намерения видеться вновь. Так теперь вы оставите меня в покое?
— Простите меня, — сказал Хофман. — Я не знал. Но здесь безопасно. Я уверен, что за мной никто не шел. И я очень рад вас видеть. — Он попробовал улыбнуться.
Лина не ответила. Здесь, в укрытии, под пологом деревьев стоял запах влажного мха, стелившегося под ногами. Она вдруг вспомнила, что в такой же рощице она в первый раз позволила одному мальчику положить руку себе на грудь. Потом, когда он полез другой рукой в ее трусы, она вырвалась и убежала.
— Мне надо идти, — сказала она.
Хофман понял, что должен отпустить ее. Он передал ей предостережение, и каждую минуту, проведенную с ним, она рисковала. Но он еще не все ей сказал. Наклонившись к ней так, что его губы почти касались ее уха, он тихо сказал:
— Мне нужна помощь.
— Какая?
— Информация о Хаммуде, с которой можно было бы пойти в полицию. Этот человек опасен. Если кто-нибудь что-нибудь не предпримет, он так и будет терроризировать людей.
— Это меня не касается, — так же тихо ответила она. — Я черкнула Пинте пару строк по поводу жены, и все. Это была обычная вежливость.
Хофман умоляюще посмотрел на нее, как тогда, на вечеринке. Они уже подошли к концу лесистого укрытия. Метрах в пятидесяти от них гулял по тропинке мужчина с собакой. Времени было мало. Но Хофман знал, что он занят не милосердием, а работой. У него был клиент, пусть даже уже мертвый, и ему по-прежнему нужна была информация.
— Кто на самом деле хозяин «Койот»? — спросил он шепотом. — Вы знаете?
— Перестаньте! — ответила она.
— Прошу вас. Мне нужна помощь. Я обещал Пинте, что сделаю что-нибудь, но я не могу пойти в полицию без информации. Что делает Хаммуд в Ираке?
— Перестаньте! — повторила она и ускорила шаг, почти перейдя на бег. Длинноногая, со стрижеными волосами, она была похожа на цирковую лошадь.
Хофман бросил последнюю карту. Больше у него не было ничего.
— Что такое «Оскар трейдинг»?
Лина обернулась и посмотрела ему прямо в глаза. Ее лицо внезапно побледнело.
— Я не знаю, — отрезала она. — Оставьте меня в покое!
Они уже вышли из своего укрытия и снова были на открытой лужайке, на тропинке, шедшей по диагонали к Уголку ораторов. На ней через каждые несколько десятков метров стояли скамейки, и отдельные стойкие гуляющие отдыхали на них в одиночестве в сгущающихся сумерках. Хофман быстро обвел их взглядом и вдруг остановился на одном человеке, сидевшем метрах в тридцати от них и задумчиво читавшем газету. Он уже видел его раньше. Теперь этот человек был без шлема и в сером френче поверх другой одежды, но это был тот же соломенный блондин — посыльный с мотоциклом, полчаса назад загоравший перед «Энвилом». Хофман оглядел лужайку, не зная, что делать. Лина заметила, как изменилось его лицо.
— Что случилось? — спросила она.
— Ничего, — сказал Хофман, но медлить было нельзя. Подумав секунду, он заговорил шепотом: — Слушайте меня, Лина. Пожалуйста, сделайте в точности то, что я скажу, и все будет нормально. Поняли меня? Во-первых, дайте мне пощечину. А потом крикните мне как можно громче, чтобы я прекратил вас преследовать. И убегайте. Ясно?
По ее глазам было видно, что она поняла, но ее сковал ужас от мысли, что за ними следили.
— Делайте же это, черт возьми! — прошептал Хофман. — Ну!
Очнувшись от его голоса, она сильно размахнулась и с громким треском влепила ему ладонью по щеке.
— Перестань за мной ходить! — крикнула она. Ее ярость была настоящей, глаза сверкали. — Ублюдок! Говорила я тебе после того вечера, что видеть тебя не хочу, и еще раз повторяю. Проваливай! — Она ударила его снова, еще сильнее, и пустилась бежать через лужайку к Парк-Лейн.
Сидящие на скамейках, в том числе мотоциклист, уставились на них. Хофман проводил Лину взглядом, чувствуя жжение на щеке и ругая себя за глупость. Но по крайней мере, он устроил ей алиби.
Убежав от Хофмана, Лина бродила как во сне. Она пересекла Парк-Лейн и пошла в южном направлении, потом налево в Мэйфер, потом опять на юг к Пикадилли. Она шла бесцельно, почти наугад, словно пытаясь убежать не от какого-то человека или из какого-то места, а от чего-то, гнездившегося внутри нее. Она старалась придумать, что теперь сказать профессору Саркису, но тревога не оставляла места для мыслей. Она чувствовала, что буквально заболевает, хотя всего несколько часов назад была совершенно здорова. И единственное лечение состояло в непрестанном движении. Она вошла в метро на Грин-парк и проехала одну остановку до вокзала Виктория, где несколько минут шла в потоке пригородных пассажиров. Она думала, что люди Хаммуда, наверно, следят за ней даже здесь — словно надоедливая лампочка, которую не выключишь, потому что не знаешь, где она. Затем она вернулась в подземку и по кольцевой линии проехала одну остановку до Слоан-сквер. Она все еще боялась ехать домой, поэтому вышла и решила подождать следующего поезда.
Лина села на деревянную скамью посреди грязной станции и стала рассматривать рекламы с женщинами, сбросившими одежды в приливе энтузиазма по поводу тоника и конфет. У выхода бродячий музыкант с расстроенной гитарой пел песню Боба Дилана. Вдоль скамеек бродила цыганка в лохмотьях, выпрашивая деньги на непонятном языке. Духовное опустошение вокруг вполне соответствовало смятению, царившему в ее душе. Внезапно Лина ощутила потребность прочитать молитву, но кажется, она не помнила ни одной. В этом была еще одна ее проблема: отчуждение от своей религии! Она по-прежнему пекла печенье на праздник «Эйд аль фиттир» и просила Господа ниспослать здоровье всякому, входящему через переднюю дверь, но молиться она не умела. Ее вера была чем-то вроде смутного арабского унитаризма — ощущение Аллаха, скрывающегося где-то там, далеко, являющего себя в восходах солнца, цветах, рождении детей, но недостижимого в трудные минуты. Подошел следующий поезд, его двери зазывно распахнулись. Лина вошла, села и закрыла глаза, чтобы не видеть грязь и суматоху кольцевой линии. В качающемся вагоне она повторяла про себя по-арабски молитву, которую когда-то слышала от отца: «Господь — свет небес и земли. Свет Его, словно…» Она старалась вспомнить дальше, но не могла. Единственное, что она смогла вспомнить, — это самую простую молитву: «Ла илаха илла-Ллах. Мохаммед расул Аллах» — «Нет Бога кроме Бога, и Мухаммед Его пророк». Молиться было странно. Ее молодые арабские друзья очень удивились бы: молитвы — это для иранцев и ненормальных с ватными бородами. «Ла илаха илла-Ллах. Мохаммед расул Аллах». Она повторяла ее снова и снова, и эти слова успокаивали ее, словно звуки воды, журчащей по камням. Поезд подъехал к ее остановке в Ноттинг-Хилл-Гейт, но Лина проехала до Бейсуотера, и оттуда пошла пешком домой.
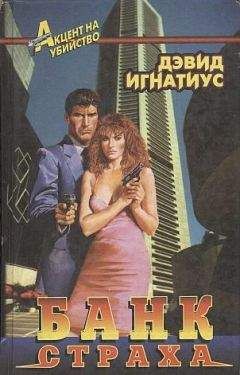
![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)