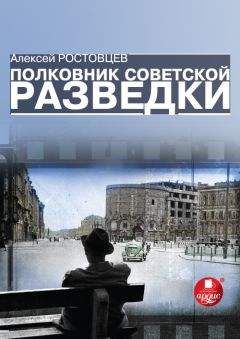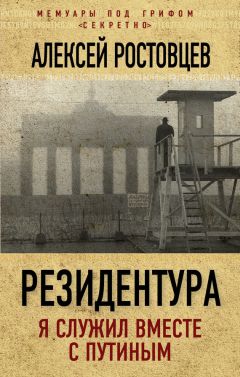— По-моему, ты уже набрался, — брякнул он ни с того ни с сего.
Я оторопел. Скажи министр кому-либо из наших генералов, что я пьян, и мне крышка.
— Товарищ министр, я не пил ни капли!
— Будет тебе врать. Ты пьян. Хочешь, я отвезу тебя домой на «Чайке»? Ты никогда не катался по Москве на «Чайке»?
Я тогда еще не знал, что Мильке в состоянии подпития любит хохмить и разыгрывать своих сотрудников. Решив, что надо немедленно сматываться, я попытался тепло проститься с министром. Он огорчился по поводу того, что напугал меня и что его розыгрыш не нашел поддержки. Похлопав меня по спине, он вытащил из кармана сувенир — памятную медаль, на одной стороне которой был изображен наш солдат, что стоит в Трептов-парке с девочкой на руках, а на другой — новый памятник Ленину на Ленинплатц в Берлине. Медаль эта хранится у меня до сих пор. В последний раз Мильке вручил мне правительственную награду ГДР через семнадцать лет, в 1987 году. К тому времени мы оба изменились. Я стал пожилым и солидным, а он превратился в усохшего забавного старичка с коричневыми пигментными пятнами на лице, которого уже никто не боялся.
— Поздравляю тебя с высокой наградой, — сказал министр, слабенько пожимая мою руку.
— Служу делу пролетарского интернационализма! — заучено ответил я, жмурясь от вспышки блица.
Фотограф запечатлел нас на фоне алых знамен, украсивших клуб МГБ в Берлине по случаю 38-й годовщины ГДР. Республике оставалось жить два года.
Эрих Мильке прожил без малого век. Это была эпоха становления и крушения могущественных тоталитарных режимов, и только они могли породить таких личностей, как Мильке. Это был век жестокий и пламенный, век-убийца и век-художник. Было бы проще всего вывалять покойного старика Эриха в грязи и поставить на этом точку. Но давайте вспомним о том, что будущий министр еще накануне прихода Гитлера к власти встал в ряды борцов Сопротивления, что он одним из первых поднял оружие против фашизма, защищая республиканскую Испанию, что он молодым парнем был брошен в тюрьму Моабит, где впоследствии гестаповцы отрубили головы Юлиусу Фучику и Мусе Джалилю. Кстати, в этой самой тюрьме прошли и последние годы уже бывшего министра. Таковы гримасы истории.
Мильке — это блестящие операции гэдээровской разведки, которые стали классикой и войдут во все учебники. Это миллионы листов безвозмездно переданной нашей стране научно-технической информации, которая была похищена у тогдашнего противника. Мильке — это сотни разоблаченных натовских шпионов, кишевших вокруг советских военных объектов в ГДР.
Болтают, будто Мильке был осведомителем еще бериевских НКВД-НКГБ. Может быть. В таком случае он стал идеальным агентом влияния, в котором долг и ответственность сочетались с преданностью нашей стране и любовью к ней. Он любил, но только русскую водку и русские пельмени. Он любил Россию, которая в годы войны стала ему второй родиной, и с гордостью носил на груди Звезду Героя Советского Союза.
С генералами КГБ, не владевшими немецким, Мильке общался через переводчика, но однажды огорошил всех нас, прочитав нам часовой доклад об оперативной обстановке в ГДР на хорошем русском языке. Закончив, победно оглядел восхищенных слушателей. Знай, мол, наших! Тогда ему было восемьдесят лет.
Любимым детищем Мильке стало Nfs, министерство госбезопасности — Ministerium für Staatssicherheit, отсюда «штази». У меня было много друзей в разведке и контрразведке ГДР. Я с ними работал, дружил семьями, ездил на охоту, рыбалил, выпивал, в конце концов. Это были отличные ребята, которые честно делали свое дело, и никто не заставит меня говорить о них плохо. Что же касается политического сыска, то к этому направлению деятельности любой охранки я относился и отношусь с брезгливостью, считаю его бесполезным и даже вредным. Бесполезным потому, что ни одному политическому сыску еще не удалось спасти от краха гниющий режим. Вредным потому, что любой политический сыск постоянно лжет, вводя лидеров той или иной страны в заблуждение об истинном положении вещей в государстве и тем самым, побуждая их принимать неверные, а порой роковые решения. Политический сыск развращает нацию стукачеством и тормозит общественный прогресс, поскольку борется с прошлым против будущего.
Личности, подобные Мильке, нам, россиянам, следует рассматривать не только в историческом аспекте, но и с точки зрения государственной целесообразности, государственной выгоды, как это делают, скажем, американцы. Император Александр III говаривал, что у России нет друзей. Мильке был исключением из этого правила. И дай Бог, чтобы у России когда-либо появились за ее рубежами такие верные и надежные друзья, каким был у Советского Союза Эрих Мильке.
Дядя мой Константин Григорьевич почти всю свою трудовую жизнь ходил в больших начальниках. Строил какую-то железную дорогу на Дальнем Востоке, был председателем облисполкома (а по-нынешнему — губернатором) в большом сибирском регионе, руководил главком в столице. Под старость купил дом в курортном городке Нарзанске на Северном Кавказе и уже совсем было собрался принять обличье тихого неприметного пенсионера, но тут партия швырнула его на новый ответственный участок — он стал председателем горисполкома, то бишь мэром Нарзанска, и проработал на этом посту почти пятнадцать лет. Умер Константин Григорьевич совсем недавно, прожив без малого девяносто годов.
Я люблю Нарзанск не только потому, что жил там в детстве, и не только за то, что над ним витает дух Лермонтова, но и за то, что он хранит память о дядюшке Константине Григорьевиче, добром мудром веселом старике, знавшем Нарзанск, как знают собственный двор, и всегда готовом рассказать массу былей и небылиц о своем городишке и его обитателях.
Мне нравилось гулять с дядей по Нарзанску. Константин Григорьевич болтал без умолку, а я слушал и запоминал.
— Вот здесь, — рассказывал дядя, тыча палочкой в сторону ажурного мостика, переброшенного через горный ручей, — Лермонтов повстречал графиню Ростопчину. Она была холодна с ним в тот день… В этом доме Чехов писал «Даму с собачкой». Занятно, а? Жил у нас, а писал о Ялте… Тут пел Шаляпин… Тут останавливался Рахманинов… С того балкона читал стихи Маяковский… В том санатории, что на горке, Станиславский сочинял книгу о своей системе… А вот на этих лужайках и тропинках Коротышка обхаживал Андропова…
Коротышкой дядя называл своего бывшего секретаря обкома КПСС, неказистого болтливого мужичка с лицом деревенского придурка, развалившего хозяйство области, мужичка, который, благодаря выдающимся холуйским способностям, вознесся на невиданные высоты, оказавшись вроде бы ни с того ни с сего у кормила величайшей из империй…
Я и без дяди знал, что Андропов сильно болел и часто ездил на лечение в Нарзанск. Коротышка бессовестно использовал болезнь могущественного члена Политбюро и шефа КГБ в корыстных целях. Он, как комар, вился вокруг Андропова, выстилался перед ним сухим листом, рассыпался мелкий бесом. Это было отвратительное зрелище. В дядиных альбомах я видел снимки, которые запечатлели Коротышку, изгибавшегося в наираболепнейших позах перед сильным мира сего, и Андропова, с любопытством взиравшего на пигмея с высоты своего внушительного роста.
Пигмеи любят власть и, как правило, достигают ее, говаривал дядюшка. Коротышка достиг. Этот фигляр и пустомеля был неплохим актером. Он умел казаться работящим, энергичным, напористым. В конце концов, Андропов составил ему протекцию для перевода в Москву. Дальнейшее было делом техники, ибо старые впадающие в маразм байбаки из Политбюро быстро один за другим выходили в тираж. Власть должна была автоматом достаться самому молодому и здоровому.
Однажды дядя — это было уже в начале девяностых годов — предложил мне экскурсию по нарзанскому кладбищу. Показал, между прочим, место, где будет лежать он со своей старухой, а остановился у весьма любопытного захоронения. Мне сразу стало ясно, что это и есть главная цель экскурсии. На территории в добрых полторы сотки был по всем признакам недавно выстроен то ли мавзолей, то ли мемориал. Мы прошли под арку высокой ограды, сложенной из каменных блоков, и увидели над массивным серым гранитным надгробием обелиск из черного мрамора, на котором была выбита какая-то пространная надпись на армянском языке, а чуть пониже золотом сверкала крупная кириллица: «Манукян Сурен Гургенович (1918–1992)». Еще ниже снова кириллица: «Он любил жизнь и умел жить». Хозяин могилы, изваянный из белого мрамора, расположился перед обелиском. Он сидел в кресле в позе весьма непринужденной. На нем были свитер и джинсы. Каменное лицо добродушно улыбалось. Я тоже улыбнулся, увидев на ногах скульптуры домашние шлепанцы. У подножья памятника вился под легким ветерком Вечный огонь. За обелиском умиротворяюще шелестел и булькал многочисленными струями и струйками невысокий, но очень красивый фонтан. К ограде с внутренней стороны примыкали одна против другой две беседки, где можно было посидеть, отдохнуть, поразмышлять о космосе и помянуть усопшего, тем более что початые и непочатые бутылки с коньяком стоили тут в изобилии. Я забыл сказать о том, что могила Манукяна была буквально завалена свежими цветами. Родственники и близкие его не забывали.