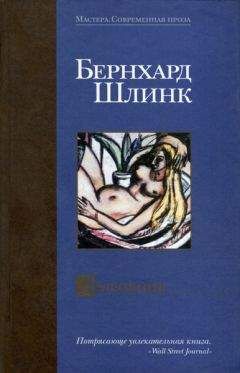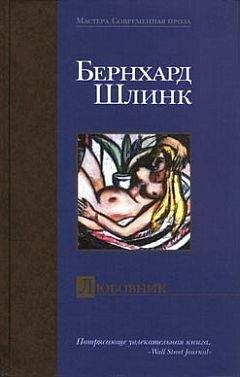Ознакомительная версия.
— Мне надо сдать перевод.
— Ты что, больше не работаешь на Булнакова?
— Работаю. Но сейчас я еще в отпуске по уходу за ребенком. И подрабатываю переводами. В Нью-Йорке жизнь дорогая…
— Ты была на последнем матче «Янки» против «Индейцев»?
— Игра была так себе. Ты видел ее? Все, мне пора. Спасибо за бебиситтинг.
Она кокетливо помахала ему рукой из прихожей.
Георг опять лег в постель, но уснуть уже не смог. Он лежал и слушал то довольное чмоканье, то капризные вздохи Джилл. Потом встал, принял душ, взял лежавшую на краю ванны одноразовую бритву для женских ног и побрился. Обнаружив под раковиной стиральный порошок, он замочил свое белье, рубашку и носки, надел к своим джинсам самый большой пуловер Франсуазы, который смог найти в ее шкафу. Когда он подошел к кроватке Джилл, она лежала с открытыми глазами. Увидев его, она скривила рот и расплакалась так, что лицо ее побагровело. Он взял ее на руки, но никак не мог вспомнить, куда Франсуаза поставила бутылочку, и стал метаться по квартире. Джилл ревела не умолкая.
У Георга никогда не возникало желания иметь детей. Но он никогда не был против того, чтобы их иметь. Эта тема просто никогда его не занимала. Когда они с Штеффи поженились, мысль о том, что в один прекрасный день у них появятся дети, была для них чем-то само собой разумеющимся, а с Ханной, которая еще до Георга сделала себе стерилизацию, этот вопрос отпал сам по себе с той же определенностью. У Георга был крестник, старший сын его школьного и университетского друга Юргена, который стал рядовым судьей в Мосбахе, в двадцать три года женился и родил уже пятерых детей. Со своим крестником Георг ездил во Франкфуртский зоопарк и в Мангеймскую обсерваторию, читал ему во время своих визитов сказки на ночь, а на десятый день рождения подарил большой швейцарский перочинный нож, от которого и сам бы не отказался: с двумя лезвиями, отверткой, консервным ножом, штопором, ножницами, пилкой, ножовкой, лупой, пинцетом, зубочисткой и даже приспособлением для чистки рыбы. Но практичному мальчишке нож показался слишком тяжелым, к тому же он не увлекался рыбалкой.
Георг нашел наконец бутылочку, Джилл в мгновение ока осушила ее и снова раскричалась. «Что ей еще нужно, этой козявке?» — подумал Георг.
Он вспомнил, что Франсуаза велела подержать ее вертикально и похлопать по спине, чтобы она отрыгнула. Джилл, отрыгнув, продолжила концерт.
— Ну чего тебе еще надо? Чего ты орешь как резаная? Мужчины не любят орущих женщин, поняла? И некрасивых тоже, а если ты не перестанешь орать, у тебя будет кривая и косая рожица, противная и страшная, как атомная война!
Джилл замолчала. Но, не услышав продолжения, опять заплакала. Георгу не оставалось ничего другого, как говорить и говорить, расхаживая с ней по квартире и качая ее на руках. «Ути-ути-ути», или «а-а-а-а-а-а-а», или «ччччччч» он не мог себя заставить произнести, хотя и понимал, что это удовлетворило бы ее не меньше, чем сказки, дикие вестерны и детективы, которые он рассказывал ей по памяти.
Положив ее в ванной на комод, он размотал пеленку. Она была не только мокрой, но и полной дерьма. Он вымыл Джилл зад, намазал его кремом. Подивился на крохотную, голую, безволосую щелочку. О чем, интересно, думал Господь Бог, покрывая эту штуковину волосами? Он делал Джилл «велосипед», дергая ее за ножки, поднимал и опускал крохотные ручки, разводил их в стороны и складывал на груди, давал ей подержать свой палец, тискал ее пухленькое тельце, и она довольно хихикала. «В сущности, разница между маленькими детьми и котятами невелика, — думал он. — С детьми больше мороки, они требуют, так сказать, больших моральных и материальных затрат, поэтому от них и ждут большего, что вполне логично». Он всмотрелся в крохотное личико, стараясь обнаружить признаки разума. У Джилл были тонкие темные волосики, высокий лоб, курносый нос, вздернутый подбородок и ни одного зуба во рту. В голубых глазах Георг ничего не смог прочесть. Когда он наклонился к лицу, то увидел в этих глазах свое отражение. Она вдруг засмеялась. Может, это и был признак разума? На крохотных ушках Георг заметил густой темный пушок. Джилл все еще цепко держалась за его пальцы.
— Ты моя маленькая заложница. Скоро придет твоя мама, и с этими фамильярностями будет покончено. Ей совсем необязательно знать, что я не злодей, а мокрая курица. Поняла?
Джилл уснула. Георг уложил ее в кроватку, позвонил в Германию Юргену и попросил его считать письмо, которое тот еще не успел получить, неактуальным. Он решил сначала откорректировать эту историю, так что просьба временно отменяется.
— А что ты делаешь в Нью-Йорке? — Юрген явно волновался за него.
— Я еще позвоню. Привет детям!
Георг понимал, что назрели серьезные решения. Как быть дальше? Что затевают его враги? Что он сам может и хочет сделать? Но мир за окном был где-то далеко. Георгу хорошо знакомо было это чувство по железнодорожным поездкам: хотя тебя от проносящихся мимо ландшафтов, городов, машин и людей отделяет всего лишь тонкая стенка вагона и еще более тонкое стекло окна, этой стенки в сочетании со скоростью вполне достаточно, чтобы изолировать тебя от внешнего мира. Кроме того, там, откуда ты выехал, ты уже не в силах ничего изменить, а там, куда ты должен прибыть, ты еще ничего не можешь изменить. По прибытии в пункт назначения тебя ждут решения и действия, но здесь, в этой изолированности, в этой перемещающейся в пространстве капсуле, ты обречен на пассивность и временную свободу. Если к тому же никто не знает, что ты едешь в поезде, никто не ждет тебя и ты движешься навстречу совершенно чужому городу, эта изолированность обретает экзистенциальное качество. Никакая автомобильная поездка с этим не сравнится: там ты либо управляешь автомобилем и проявляешь соответствующую активность, либо сидишь рядом с водителем и проявляешь меньшую активность, но все равно имеешь влияние на происходящее. В квартире Франсуазы он чувствовал себя в такой же капсуле. Правда, это зависело от него самого — выйти наружу и подключиться к жизни или остаться внутри. И он знал, что рано или поздно ему предстоит выйти, что он должен будет это сделать и сделает. Он не был заблокирован изнутри. Просто поезд еще не прибыл в пункт назначения, а брошюрка с расписанием движения куда-то затерялась.
Он сидел в гостиной, в кресле-качалке, и смотрел в окно. Внутренний двор, дерево, пожарные лестницы, бельевые веревки, мусорные контейнеры. Он не мог определить, из каких квартир доносятся какие звуки — стук молотка, громыхание кастрюль, саксофон, крики детей и громкие голоса женщин, переговаривающихся через двор. Франсуазы все не было. Тени медленно ползли вверх по стене. В шесть часов Джилл проснулась, но на этот раз все обошлось без крика. Когда она опять уснула, Георг выстирал свое белье и повесил сушиться. Надвигались сумерки. Небо над соседними домами и за Всемирным торговым центром побагровело.
Франсуаза вернулась с большим коричневым пакетом из супермаркета.
— Как Джилл?
— Спит.
— Все еще спит? Обычно она в шесть просыпается.
— Она и проснулась. Я напоил ее чаем, и она опять уснула.
Франсуаза недоверчиво посмотрела на него:
— Извини, что я так долго. Я еще заходила к Бентону.
— Ты… Значит, ты все-таки… Ну и где они? Сколько у меня времени, чтобы выйти с поднятыми руками? — Он встал.
— Не надо! — воскликнула она и, бросив на пол пакет с продуктами, подбежала к двери спальни. — Не надо! Я ничего им не сказала. В «Нью-Йорк таймс» есть сообщение… Погоди, сейчас покажу. — Она выставила вперед левую руку, словно защищаясь, и вытащила из груды рассыпавшихся по полу продуктов газету. — Сейчас найду… Вот, смотри!
— Я уже видел это.
Значит, она и в самом деле поверила, что он сможет что-то сделать Джилл.
Франсуаза выпрямилась.
— На следующей неделе у меня кончается отпуск, и я все равно собиралась зайти в контору, а тут прочитала это сообщение и…
— Ты говорила с Бентоном?
— Да. Он сидит злой как черт. Эта заметка в газете совсем не его идея. Он, наоборот, не хотел никакого шума. Это маляры на лестнице вызвали «скорую помощь» и полицию. Потом примчались репортеры, стали вынюхивать и выспрашивать. А твое имя назвал тот тип, который свалился на лестнице. У него после травмы крыша поехала. Сколько шуму, сказал Джо, сколько шуму!
— Джо — это Бентон?
— Да. А ты знаешь, что тот, который упал в шахту лифта, сломал обе ноги?
— Откуда я могу это знать? У меня не было времени останавливаться и смотреть, как он там приземлился, удачно или нет.
— Зачем ты это сделал?
В ее голосе был слышен страх. Он стал для нее другим. Жестоким, холодным и опасным.
— Что он тебе говорил, этот Булнаков-Бентон-Джо? Черт, я уже скоро тоже буду называть эту скотину Свити или Хани![40]
Ознакомительная версия.