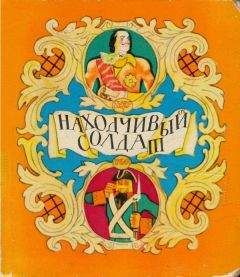В комнатах стойко пахло нежилью, и он распахнул окна, чтобы проветрить их. Потом осмотрелся. Буфет, кресло–качалка, письменный стол отца… Даже пустая клетка, в которой когда–то разорялся попугай, стояла на прежнем месте, на шкафу. И картина «Синопский бой» косо висела над кушеткой.
Лишь на письменном столе не было бронзового чернильного прибора и терракотовой китайской вазочки с прокуренными трубками. Куда они могли деваться? Он хорошо помнил, что они оставались на столе. Машинально он сунул руку в карман кителя, чтобы удостовериться, цела ли та отцовская трубочка, которую он унес с собой и только что дымил ею.
Его пальцы ощутили добрую теплоту дерева — трубка еще не успела остыть.
Тогда он подумал, что вазочку с трубками и чернильный прибор, должно быть, припрятала соседка. Как ее звали? Мать называла ее просто Ольгой, Олюшка, а он величал ее Ольгой Андреевной. Она казалась ему старой, хотя была старше его всего лет на восемь, не больше. Последнее он помнил твердо.
Тишина была неподвижной, мертвой. Судовые часы, висевшие в простенке между окнами, не шли. Их медный обод потускнел. Нечаев придвинул стул и, взобравшись на него, завел часы, подумав о том, что отныне они снова будут отсчитывать время живой жизни, которая вернулась в Одессу. Жаль, конечно, что из этой жизни выпало девятьсот семь дней оккупации. Но жизнь, он не сомневался в этом, возьмет свое.
Кровати во второй комнате были застелены, но он решил переночевать в столовой на продавленной кушетке, которая уже и раньше была ему коротка. Не беда, он свернется калачиком, как в детстве. Под голову положит плюшевую подушечку, укроется шинелью и сразу же заснет. Подумав об этом, он по фронтовой привычке сунул под подушечку свой верный «ТТ».
Но заснуть ему не удалось. Лишь только он улегся, как услышал, что кто–то возится в коридоре. Схватив пистолет, он вскочил с кушетки и рванул дверь на себя.
В коридоре стояла Ольга Андреевна. Она была в потертом ватнике, в солдатских сапогах. От нее разило, как от землекопа. Ослепленная лучом его электрического фонарика, она зажмурилась. Потом, когда Нечаев опустил фонарик, она узнала его и слабо, с каким–то безразличием произнесла:
— А, это ты…
Его удивило и покоробило ее равнодушие. Чем он провинился перед нею? Он помнил, как в сорок первом, когда он вошел в квартиру, она бросилась ему на шею: «Петрусь!..» А теперь…
— Я очень устала, — сказала она просто. — Ты когда пришел? У тебя ведь и ключей не было.
— Пустяки, — сказал он беспечно, покровительственно. — Есть хотите?
Все люди, которых он встретил в этот день, хотели есть. Но она ответила:
— Нет. Потом. Прежде всего мне надо помыться.
Они проговорили почти до рассвета.
Как она жила эти годы? В основном она провела их в катакомбах, под землей. Она беспартийная, но когда, перед приходом румын, ее вызвали в райком, она сразу же, не колеблясь, дала согласие… Принимала по радио сводки Совинформбюро, печатала на машинке прокламации, была связной. Опасно? Она пожала плечами. Ей ведь было еще легче, чем другим. Когда ее посылали в город, она имела возможность видеть небо, дышать полной грудью. Явки у них были в городе. На Слободке, на Пересыпи. Иногда ее посылали на рынок. Она приносила листовки и передавала их молочнице, приезжавшей из Усатова. У той бидоны были с двойным дном.
Нечаев спросил, как людям жилось в катакомбах.
— Обыкновенно. Работы, как всегда, хватало, — ответила она просто.
У них было оружие, была взрывчатка. Кто учился разбирать и собирать трофейный пулемет «Шкода», кто чистил оружие, носил воду из подземных источников, стряпал. Другие же долбили ломами камень. А винтовочные патроны? Они так быстро ржавели, что приходилось их скрести ножами, шлифовать. Сырость. Люди пропахли землей. Каменная пыль въедалась во все поры. Живешь, а над головой сорокаметровый пласт земли. И сегодня, и завтра…
«Погребенные заживо», — подумал Нечаев. Но она не произнесла этих слов. Люди жили, воевали, даже влюблялись. Думали об одном–о победе. И это придавало им сил.
Она рассказывала вяло, неохотно. Нечаев чувствовал: что–то тревожило и томило ее душу. Что именно? Он не решался спросить. Если сочтет нужным — сама расскажет.
— Ну, а ты–то как? — спросила она. — Мать и сестренка живы?
Он ответил, что видел их прошлым летом. Они и теперь в Баку. Скоро, наверно, приедут. А он… Воевал, как все. И на суше, и на море. Куда только ни забрасывала его судьба! Враги ведь не только перед тобой, иногда они и за твоей спиной. А это еще опаснее.
Враги за спиной? Она подняла глаза. Это он верно сказал. Но как их распознавать?
— Есть люди, которые этим занимаются.
— А ты? — спросила она в упор.
— И мне приходилось.
— Тогда слушай… — Она подалась вперед, откинула со лба седую прядь. — Ты должен мне помочь. Понимаешь? Должен. Я не могу так жить. Вот уже три месяца я ношу это в себе. Командир отряда говорил, что я напрасно извожу себя, но я не могу, не могу…
Она произнесла это с такой тяжелой грустью в глазах, что Нечаев вздрогнул.
Это случилось в середине января. Ольгу Андреевну и еще одного партизана послали в город.
— Как его зовут? — спросил Нечаев.
— Его звали Василием, теперь его уже нет, — ответила она. — Он был мне очень дорог. Так дорог, как ни один человек в мире. Видишь, я от тебя ничего не скрываю, — ответила она.
— А как его фамилия? — спросил Нечаев.
— Попичко. Василий Харитопович. Двенадцатого года рождения. Член партии — его приняли в отряде. Рекомендации дали ему командир и комиссар. А они разбирались в людях, можешь мне верить.
— Не сомневаюсь, — сказал Нечаев. — Дальше.
До города Ольга Андреевна и Василий шли вместе. А дотом разошлись. Она направилась на рынок, а он пошел на Пироговскую. Там, во дворе второго номера была столовая железнодорожников, в которой он должен был встретиться с одним человеком. Дело в том, что подпольные группы, действовавшие в самом городе, в целях конспирации действовали разрозненно. Ни одна группа не знала о существовании другой. А фронт уже приближался, и надо было их объединить. Откуда было знать Василию, что за этой столовой уже наблюдает сигуранца? Его схватили, когда он присел за столик…
Она замолчала, ушла в себя, в воспоминания.
— Провалы были и раньше, — сказала она через минуту. — Но этот… До сих пор не нахожу себе места, понимаешь?
Василия Попичко допрашивали четверо суток. Сам старший следователь. Бил резиной, опутанной проволокой, хлестал по спине плетками со свинцовыми наконечниками. Она знает это от тех, кому удалось вырваться. И она видит ярко освещенный кабинет, видит Василия, распятого на столе. Видит так, словно его истязали в ее присутствии.
Они предприняли попытку вырвать Василия из сигуранцы. Иногда это им удавалось. Центральная сигуранца находилась на Пушкинской. Комиссар Ионеску охотно брал взятки. Через румынского адвоката по фамилии Сырбу. Вот они и собрали пять тысяч марок. Для Ионеску, для прокурора Атанасиу и шефа полиции седьмого района Аврамеску. Но этого оказалось мало. Комиссар Ионеску, как выяснилось, был любителем антикварных вещей, марки его не интересовали. И тогда…
Она решилась на отчаянный шаг. Хотя в их доме жили полицаи, она ночью проникла в эту комнату.
— Я взяла бронзовый чернильный прибор твоего отца и его трубки, — сказала она. — Прости, пожалуйста.
— И правильно сделали, — сказал Нечаев. — Человек дороже.
— Но нам его не удалось спасти. Мы опоздали. А деньги и вещи пропали. Но и это не все. Еще через два дня к нам нагрянули румыны. Жандармы и полицаи. Попробовали проникнуть в катакомбы через главный ход. Ума не приложу, как они узнали о нем. Ну, нам, конечно, пришлось принять бой. И тогда румыны… Словом, они забетонировали этот вход.
— А других у вас разве не было? — спросил Нечаев. — Запасных?
— В том–то и дело, что все запасные были блокированы еще раньше, — сказала она.
Нечаев замолчал.
— И тогда кто–то пустил слух, что это Василий… Дескать, не выдержал пыток и… Но я не верю. Я его знала лучше всех, понимаешь? Не мог он стать предателем.
Нечаев продолжал молчать.
— Скорее всего это я была виновата. За мной ведь могли увязаться шпики и проследить, — сказала она, и у нее забулькало в горле. — Как узнать правду?
Катакомбы… Ему не надо было о них расспрашивать. В детстве он с дружками лазил туда не раз. Катакомбы, как он знал, тянулись на сотни километров, имели тысячи тупичков и закоулков. Конечно, они не рисковали далеко удаляться от выхода. Им было жутко и страшно. А вдруг заблудишься? Тогда не найдут.
— Это где? — спросил он.
— На Усатовых хуторах.
— Мне бы надо было там побывать.
Она не поняла и спросила: