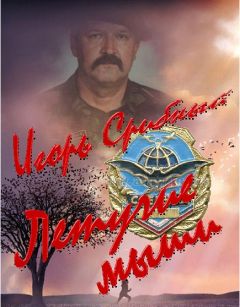Игорь Срибный
Мужской закон
Путь твой долог, солдат,
Когда ты идешь с войны….
Здесь не нужен тебе автомат,
Ни привета здесь нет, ни любви…
И тебе нестерпимо больно,
Когда топчут твою мечту.
От смерти ушел ты невольно
И пришел в пустоту…
Ты идешь, и каждый новый город
Снова причиняет тебе боль.
Помнишь всех, кто на войне был дорог,
И на раны память сыплет соль…
Здесь, парень, тоже война —
Прямо за твоей дверью.
Не дает ни покоя, ни сна,
Ни во что ты уже не веришь!
И тебе остается дорога,
Это место, где ты свободен.
Лишь в дороге исчезнет тревога,
Если силы уже на исходе.
Путь твой долог, солдат.
Каждый шаг — это только начало.
Не дойти до раевых врат
Впереди еще много привалов…
Когда проливается первая кровь,
Выигрывает ли кто-нибудь?
Война идет из глубины веков,
Разрывая солдатскую грудь!
Боль в сердце — без перерыва.
Путь долог. И тяжело, как в аду.
Там свет — у конца обрыва,
Когда-то к нему дойду?
Ты должен сражаться день и ночь,
Чтобы выжить и победить!
И жизни друзей уносятся прочь,
И не всех удалось схоронить.
Каждый шаг — это только начало.
Боль в сердце — без перерыва.
Один выстрел — и тебя не стало
Камнем катится тело с обрыва….
Выигрывает ли кто-нибудь?
Путь твой долог, солдат…
Путь долог…
Группа ушла далеко за перевал, и только здесь стало ясно, что идти дальше не имеет смысла: в горах быстро темнеет, а впереди громоздился высокий горный кряж, преодолеть который группа уже не успевала…
Кефир и Могила ушли искать пещеру, пригодную для ночлега, а остальные упали на рюкзаки, забросив ноги на высокие валуны.
Новый начальник разведки майор Дорошин, впервые возглавивший поиск, начал развязывать шнурки на берцах…
— Не делай этого! — сказал Седой, искоса взглянув на майора.
— Почему? — удивился Дорошин. — Пусть ноги отдохнут.
— Если сейчас снимешь ботинки, ты их потом не сможешь надеть, — пробурчал Седой. — Это аксиома.
Майор Дорошин прекратил своё занятие и, как и все разведчики, забросил ноги на валун.
Стало смеркаться… Окровавленный кусок неба на западе отчаянно сражался с надвигающейся ночью за жизненное пространство. Казалось, что облитые кровью вершины гор зашевелились и вспухли гигантской живой волной, готовой обрушиться на группу сверху… С гор потянуло холодом… Дорошенко зябко поёжился, кутаясь в ворот бушлата. Ему стало жутковато в этой теснине горных хребтов, и потянуло на разговор.
— Слышь, Егор! — сказал он почему-то полушёпотом. — А тебя почему Седым зовут? Из-за того, что волос седой?
Седой долго молчал, закрыв глаза.
— Ты когда-нибудь слышал звук, когда пуля входит в мёртвое тело? — вдруг спросил он, не открывая глаз.
— Н-не доводилось, — почему-то заикнулся Дорошин.
— В Афгане у кишлака Бедак мы вторые сутки лежали в засаде на караван. Группу повёл новый командир — лейтенант Некрасов. Тебе прекрасно известно, чем кончаются в разведке штампы… Нельзя повторяться… Нельзя ходить дважды по одной и той же дороге… Ну, и так далее… Так вот, на той тропе, что мы сторожили, до этого мы уже «забили» два каравана, и Некрасов прекрасно знал об этом. Но повёл нас именно к Бедаку. На рассвете второго дня, на самой заре начал бить снайпер духов. Тремя выстрелами он сложил гранатомётчика и радиста. А мы никак не могли засечь его! Радист ещё шевелился, и лейтенант Некрасов пополз к нему. И тогда снайпер начал издеваться над ним, всаживая пулю за пулей в сантиметре от его головы — в самую грань между жизнью и смертью… Но каждую третью пулю он вбивал в мёртвые тела рядом. Этот звук… Это чавканье, с которым пуля пробивает мёртвое уже тело… Потом ему надоело играть с Некрасовым в жизнь-смерть, и он выстрелил ему в голову… Я лежал в двух метрах от Некрасова и всё видел и слышал, но ничем не мог ему помочь… Всё это длилось не больше минуты… Потом снайпер ушёл…
Седой замолчал. Казалось, он полностью погрузился в свои воспоминания…
— И что? — не выдержал Дорошин. — Ты так и не ответил на вопрос.
— Да, — сказал Седой. — Вопрос… Я был тогда молод и волосы, и усы у меня были тёмные, почти чёрные… Когда я уезжал в военное училище, я не стал, как раньше, на боевых, стричься «под Котовского», и у меня быстро отросла шевелюра. Командир отряда, когда провожал меня, сказал: «Смотри-ка, Егор, Афган прошёл без единого седого волоса!» Но я-то знал, что я весь седой, как пепел. Так и сказал ему. «Да где ж ты седой?» — удивился командир. «Я весь седой внутри! Душа у меня седая, пеплом белым запорошенная!» — ответил я, потому что тот случай у кишлака Бедак отпечатался в моём мозгу намертво. А когда вернулся в отряд, то так и остался Седым. Хотя… Седеть я действительно начал очень скоро…
Крававо-алое солнце медленно сползало за горный кряж, чтобы где-то там отлежаться, зализать полученные накануне раны. Но к утру оно опять с опаской выглянет из-за горных вершин и, озираясь по сторонам, всё так же неспешно покатится к зениту, отчаянно выжигая полнеба. И так каждый день… Словно на жертву…
Темень ночи уверенно растворялась в сверкающем горном воздухе…
— А ты что, после училища вернулся в Афган? — спросил Дорошин.
— Я думал, ты задремал… Вернулся… На должность командира группы… От должности командира роты отказался, хотя была возможность сразу запрыгнуть туда, благо, была она вакантной, а желающих занять её не было. Но решил повременить, хотя меня ещё помнили по рассказам в отряде. И даже кличка «Седой», оказывается, прижилась и запомнилась. Но только люди уже были другие, командование другое… Надо было осмотреться. Ведь входило в Афганистан одно поколение, а через пять лет воевало там уже другое… И это новое поколение офицеров уже понимало, что мы были брошены в страну, где коварство, подлость, бесчестность возводились в ранг добродетели. Где подкуп, взяточничество, спекуляция, наркотики были так же обычны, как у нас очереди к пустым прилавкам магазинов. А эти болезни не лечатся, они приобретают характер эпидемии и ширятся. От Кабула до самой Москвы. Я думаю, оттуда мы их и притащили… Эти болезни…
— Говорят, и война там была другая? Более жестокая, что ли?
— Более жестокая? — Седой присел, прижавшись к валуну спиной. — Не знаю… Вот лишние жертвы были, это точно. Я помню, как в Панджшере батальон за один день потерял семьдесят человек убитыми. Они шли по реке на юг. Две роты шли вдоль левого берега, одна — по правому. С ними шли ещё по одной роте афганцев. По замыслу операции они все должны были идти по тактическим гребням, занимая высоты. Но жара стояла невыносимая, и люди начали падать. И командир батальона решил «пожалеть» своих бойцов и не тащить их в горы. Но в штаб исправно летели радиограммы об успешном продвижении и занятии господствующих высот. В полдень, в самое пекло, комбат увёл батальон под сень чахлой рощицы и устроил привал. А что? Дремотная тишина — только птички чирикают, противника не видно и не слышно… Солдаты упали на раскалённые солнцем камни, прислоняясь РД к деревьям, выпили воды, закурили. И вот тут их начали расстреливать с трёх точек. С тех самых тактических высот, которые они должны были по ходу движения занимать… На них обрушилась просто лавина огня… В итоге… Семьдесят человек… Мальчишек…
— И что было за это комбату? Это же прямое невыполнение приказа!
— У комбата, наверно, сразу же «сорвало крышу»… Он выхватил из кобуры ПМ и пошёл в атаку на духов. Ему дали дойти до середины реки, где самое сильное течение, и свалили выстрелом в лоб…
Из темноты неслышно материализовались две бесплотные в садящемся на землю тумане фигуры и присели рядом с Седым, едва слышно хрустнув камнями.
— Командир, глухие стены! — полушёпотом сказал Кефир. — Дальше есть крутой закоулок, для обороны, если что, удобный. Перекемарить можно только там, больше негде.
— Веди, «Сусанин», — сказал Седой, легко поднимаясь с камней, от которых теперь несло могильным холодом.
Группа вытянулась длинной цепочкой и, слегка похрустывая камешками под ногами, исчезла в каменных джунглях.
Минут через сорок дошли до укрытия, обещанного Кефиром, и тихо завозились, расстилая снайперские коврики, распаковывая спальные мешки. Ушли на посты дозоры.
Седой по укоренившейся годами привычке долго смотрел на небо, чтобы знать, какая погода ждёт группу завтра. Над головами разведчиков бесшумно ворочались тяжёлые тучи, набухшие проливным дождём. Воздух заметно свежел…