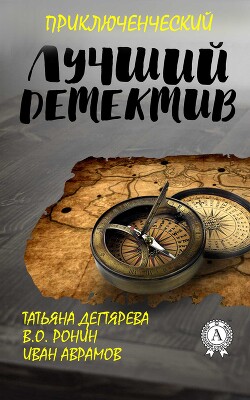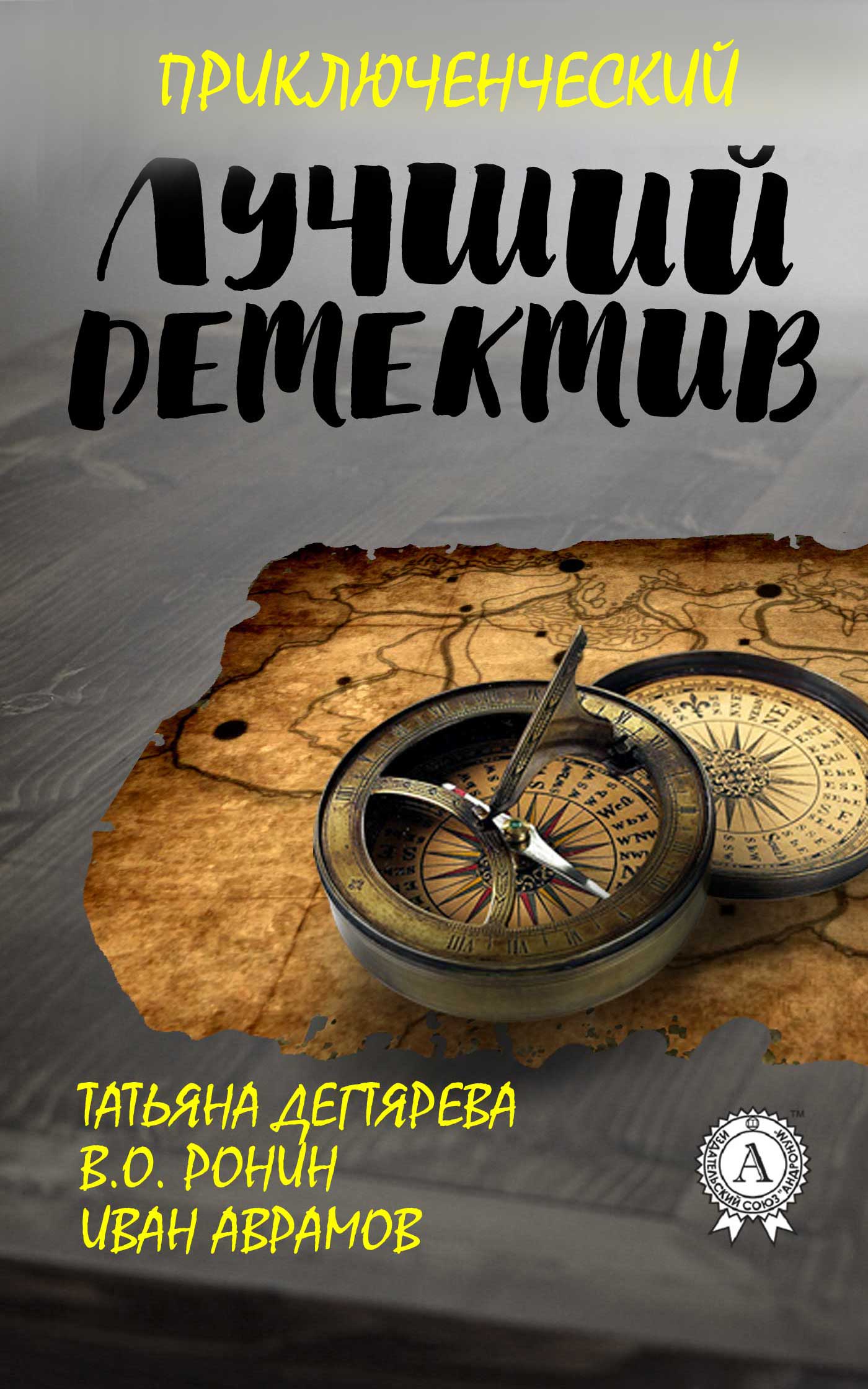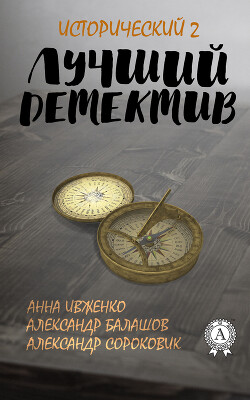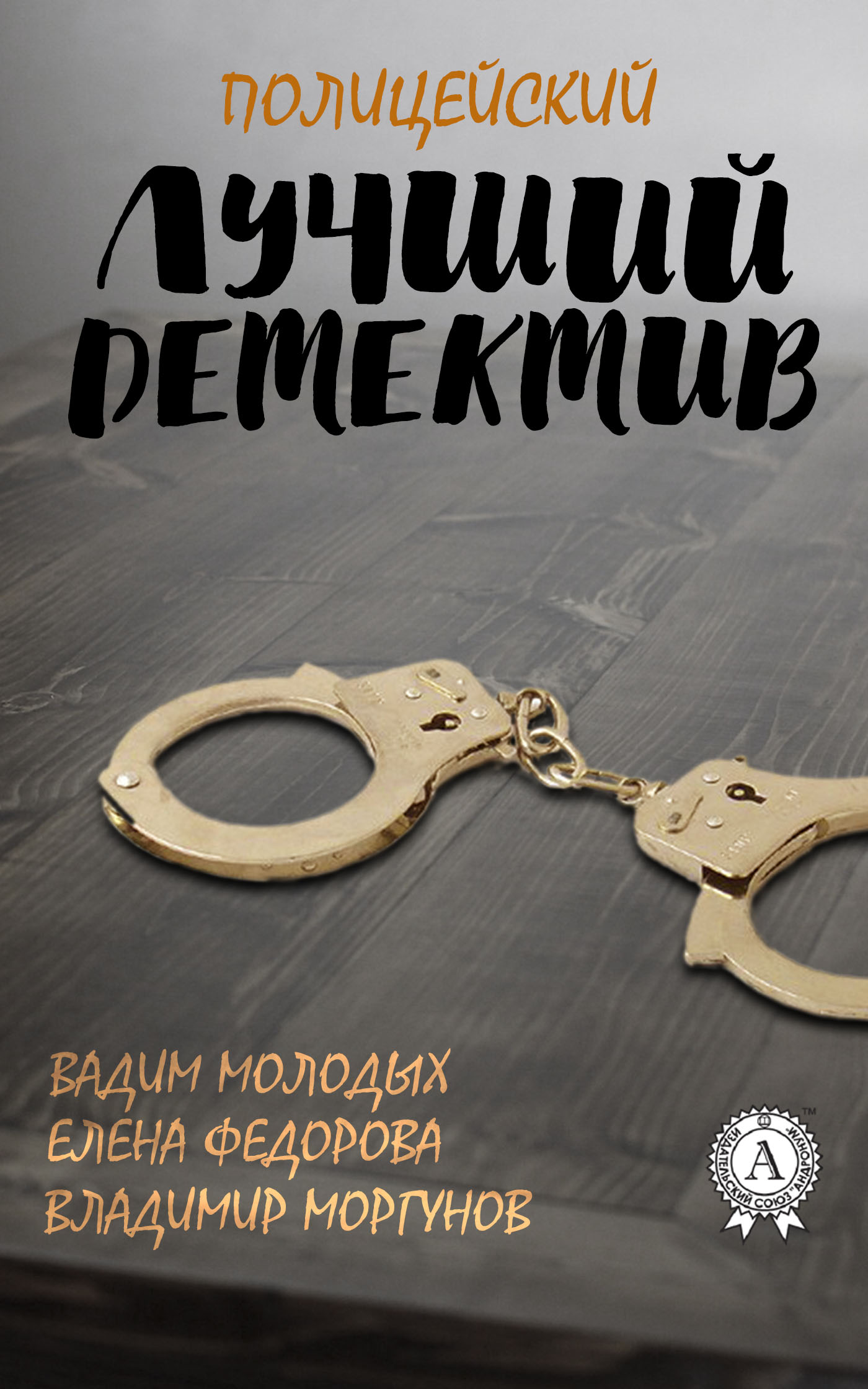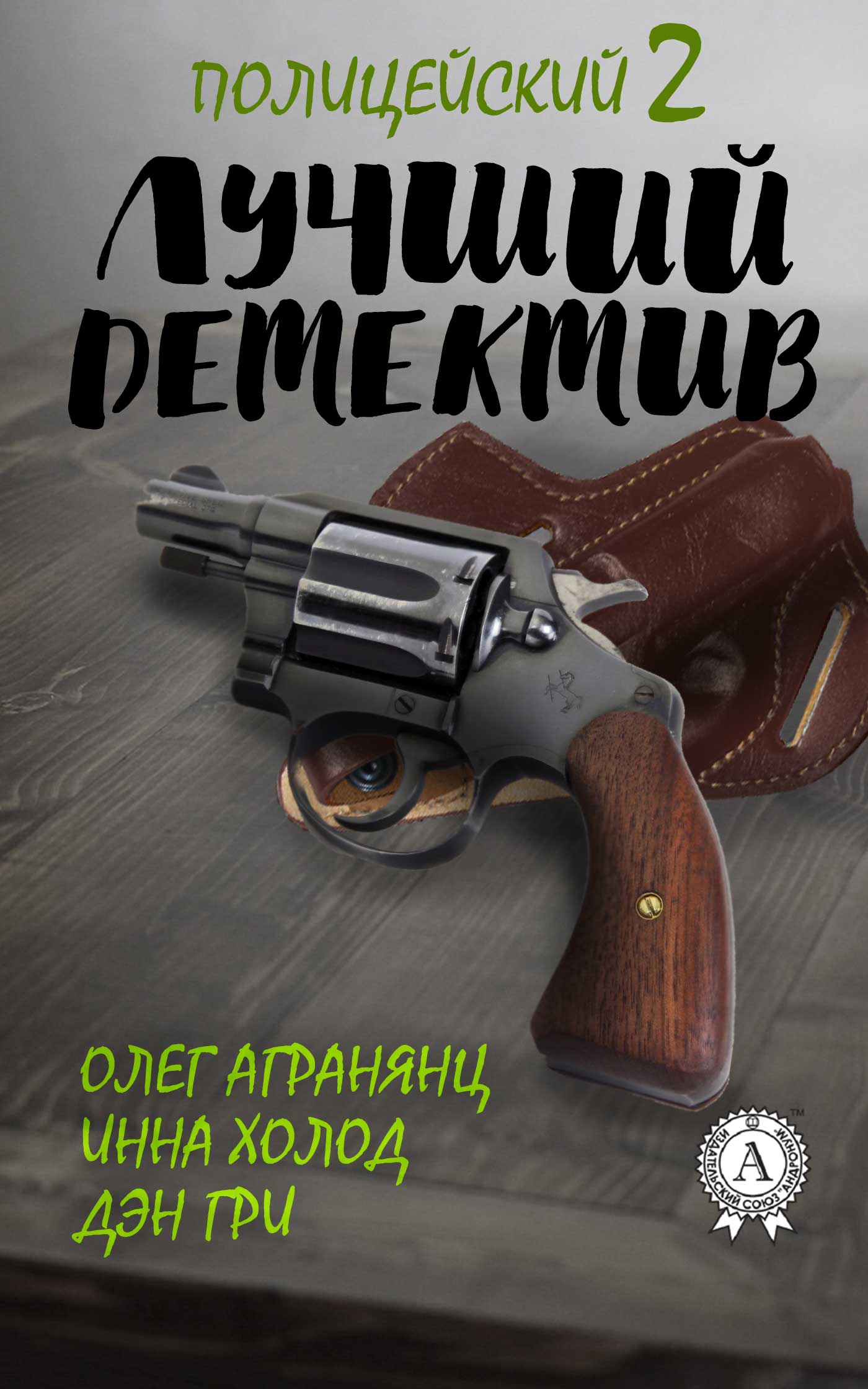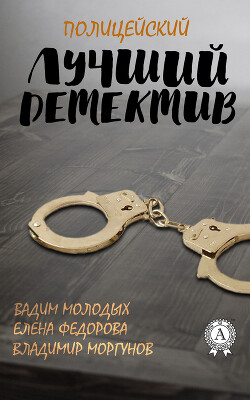Номер, в котором сидели, был великолепно обставлен — как в пятизвездочном отеле, я в таких иногда живал за границей.
В какой-то момент Павел извинился и покинул меня, а вскоре возвратился с совсем юной, лет пятнадцати, девочкой. Заметив мое изумление, отозвал меня в сторону и прошептал на ухо, что он, желая развлечься, заказал себе на ночь девственницу, но, если я не возражаю, с радостью уступит ее мне, так как планы у него резко поменялись. И за номер, и за девочку уплачено, а иконы посмотрим завтра: напарник Павла, оказывается, повез их показать еще одному светилу, но до сих пор не вернулся.
Эд, я испытал сильнейший шок! Ни с того, ни с сего мне, точно старому развратнику, предлагают совсем юную, несовершеннолетнюю девочку. Конечно, я сообразил, что попал в подстроенную кем-то ловушку. Но зачем, с какой целью? Преодолев жгучее искушение дать Павлу пощечину, я нашел в себе силы пошутить:
— Можно было, между прочим, предварительно справиться о моих вкусах. Я, например, предпочитаю чернокожих женщин в возрасте. Знаете ли, Павел, негритянка в сорок пять — баба-чернослив опять!
Павел оценил мой юмор, а я потребовал:
— Вот что, уважаемый, вы меня сюда привезли, поэтому доставьте обратно в Киев! Срочно, тотчас же! Или я сейчас вызову милицию! — при мне был мобильник, и я потянулся за ним.
— Модест Павлович, и по какому же адресу примчатся менты? — насмешливо спросил мой похититель — иначе я его назвать не могу. Он был прав — действительно, куда?
— Я виноват перед вами. Извините, пожалуйста, — перешел на серьезный тон Павел. — Сейчас я вас отвезу домой. Но давайте выпьем по последней рюмке — мировую, так сказать.
Я отказался, потому что настроение было основательно испорчено и ничего уже не хотелось. Но Павел настаивал:
— Я хочу, чтобы вы меня простили! Ну, пожалуйста!
Мы опять уселись за столик. Павел налил шампанского девчушке, которая смотрела на меня испуганными глазами. Знаешь, Эд, я сделал вывод, что она и впрямь никогда еще не имела дела с мужчинами, только вот как она здесь оказалась, действительно осталось для меня загадкой.
Я выпил последнюю рюмку коньяку, и очень скоро со мной произошло что-то страшное и непонятное — я дико опьянел (это с трех-то рюмок!) и дальнейшее практически не помню. Лишь бессвязные отрывки — как из сновидения, которое по пробуждении вырисовывается с большим трудом. Что сказать тебе, дорогой Эд — вся последующая возня вокруг моего нагого, беспомощного, беззащитного тела была отвратительно, чудовищна, с печатью запределья.
Когда утром я разлепил глаза, то не узнал собственного языка во рту — не язык, а сухой шершавый валенок, с помощью которого нельзя произнести мало-мальски внятно хоть одно слово. А головная боль такая, что жалеешь о том, что проснулся, что вообще существует этот странный и страшный мир и ты в нем. Я понял, что меня отравили — скорее всего, клофелином. Я читал об этом в газетах — очень похоже.
Павла я уже не увидел, вместо него в номер заглянул господин, удивительно напоминающий пиранью: выпуклые, вот-вот лопнут глаза, выдвинутый вперед на целый километр подбородок и отвратительно крупные, острые зубы. Он молча вставил в видеомагнитофон кассету, и я увидел на экране телевизора себя и ту девочку с испуганными глазами. Если говорить на языке сексологов, то на пленку был заснят процесс дефлорации. Я, дергаясь, лежал на млеющей от страха малышке, а она тоненько кричала: «Ой, не надо, я боюсь!», «Ой, больно!», «Ну, пожалуйста, пожалейте меня!», и эти крики переходили в стоны, коими непременно сопровождается таинство превращения девушки в женщину. Ничего, конечно, на самом деле не происходило, но об этом знал только я да те, кто эту съемку организовал, но со стороны, безусловно, впечатление такое, что я эту девочку насилую. Всякие натуралистические подробности, Эд, опускаю, мне стыдно…
— Вам повезло, — сказал человек-пиранья. — Получить на халяву такое удовольствие — это, знаете ли…
— Зачем вы это сделали? — непослушным языком спросил я.
— Этого я вам не скажу. Но отныне вы — растлитель малолетних. Поэтому упаси вас Бог проболтаться или что-то предпринять. Ну, пойти в милицию, заявить, возбудить дело… Только против кого и против чего? Эта кассета — неоспоримое свидетельство вашего необузданного сластолюбия. Вы старый развратник, для коего высшее наслаждение — обесчестить чистую, невинную девочку, обманом заманив ее в постель. В отношении вас, Радецкий, уже сегодня могут возбудить уголовное дело — хотя бы родители вашей жертвы. Но срок, который получите, еще не самое страшное. Вы, конечно, слышали, как на зоне поступают с насильниками.
— Оставьте словоблудие, — попросил я с помощью распухшего, еле ворочающегося во рту языка. — Лучше ответьте, с какой целью вы поставили этот грязный спектакль? Хотите меня шантажировать? Но зачем?
Пиранья пожал плечами.
— Еще раз повторяю: ваше дело — молчать. А что, к чему и зачем — не знаю, хотя и допускаю, что кто-то впоследствии вам весьма доходчиво это разъяснит. Но это уже не мои проблемы.
Человек-пиранья поднялся:
— Приведите себя в порядок: через полчаса вас отвезут домой. В последний раз предупреждаю: забудьте о нашем пансионате. Ерепениться не следует, понимаете, надеюсь, в каком смысле? Один лишь намек на это, и считайте, что вас уже нет в живых…
В Киев меня отвезли с завязанными глазами. Нет, за рулем уже был не Павел, а весьма неприятный тип с кривым носом, склеротическими прожилками на щеках и кадыком-рекордсменом. Это я заметил, когда он велел мне снять повязку с глаз и выбраться из машины. Мне даже показалось, что я когда-то и где-то его видел. Но где?
День, если не два, милый Эд, я отходил после клофелина, еще день мучился сомнениями, стоит ли мне обращаться в милицию. Наконец решил — стоит! В конце концов, я абсолютно ничем не запятнал себя. А прощать то, что сделали со мной эти мерзавцы, я не намерен! И я связался, Эд, только не с нашим райотделом и даже не горотделом. Я позвонил в МВД знакомому замначальника главка Ивану Сергеевичу Тарханову. Он очень неплохой самодеятельный художник, пишет пейзажи, натюрморты. Схематично, очень схематично изложил суть дела, сказав, что меня попытались запятнать с целью дальнейшего шантажа. Вероятнее всего, чтобы отнять коллекцию икон. Может, этих неведомых подлецов интересует мое собрание авангарда.
Иван Сергеевич отнесся ко мне по-доброму, но заметил, что буквально сейчас улетает по делам в Донецк и вернется через два дня. Встречу он назначил на 24 февраля, на 16–00. Вполне может быть, что после всех этих потрясений у дяди твоего расшалились нервы, но, Эд, мне показалось, что кто-то все эти дни незримо дышит мне в затылок…»
Мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. Обида, гнев, ненависть выжигали мое нутро, как огонь стерню, — будто не дядя, а я оказался в выгребной яме, после которой трудно отмыться.
Зоя, уловив, что я не в настроении, проявила чуткость, не тревожа никакими расспросами. Впрочем, я сам потом дал ей прочитать письмо — о деле Радецкого с моих, конечно, слов она знала не меньше, чем я. И тогда же она спросила:
— Ты будешь искать это странное заведение?
— Прикинь, Зоя, мне кажется, что этот кадыкастый, который отвозил Модеста Павловича, мне знаком. Кривой нос, щеки в розовых прожилках, кадык-рекордсмен… Уверен, что это водитель «бумера», тот самый, с которым я обошелся не очень-то ласково.
— Тебе обязательно надо с ним встретиться, — сказала Зоя.
— Я об этом как раз и подумал. Жаль, что уже поздно, а то позвонил бы Владимиру Юрьевичу.
Утром, а оно, как всегда, выдается у меня совсем не ранним, едва продрав глаза, бросился к телефону.
— Владимир Юрьевич, а нельзя ли встретиться с бандитом, которого я не очень-то вежливо саданул по кадыку? — нетерпеливо спросил я, досадуя, что волнуюсь, и это мое беспокойство не укрывается от Вальдшнепова.
— На предмет? — очень осторожно ответил он вопросом на вопрос.
— Надо кое-что прояснить…