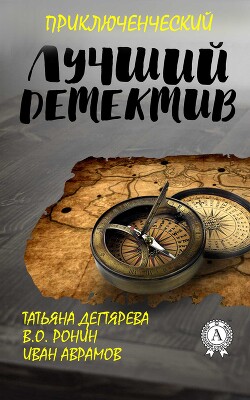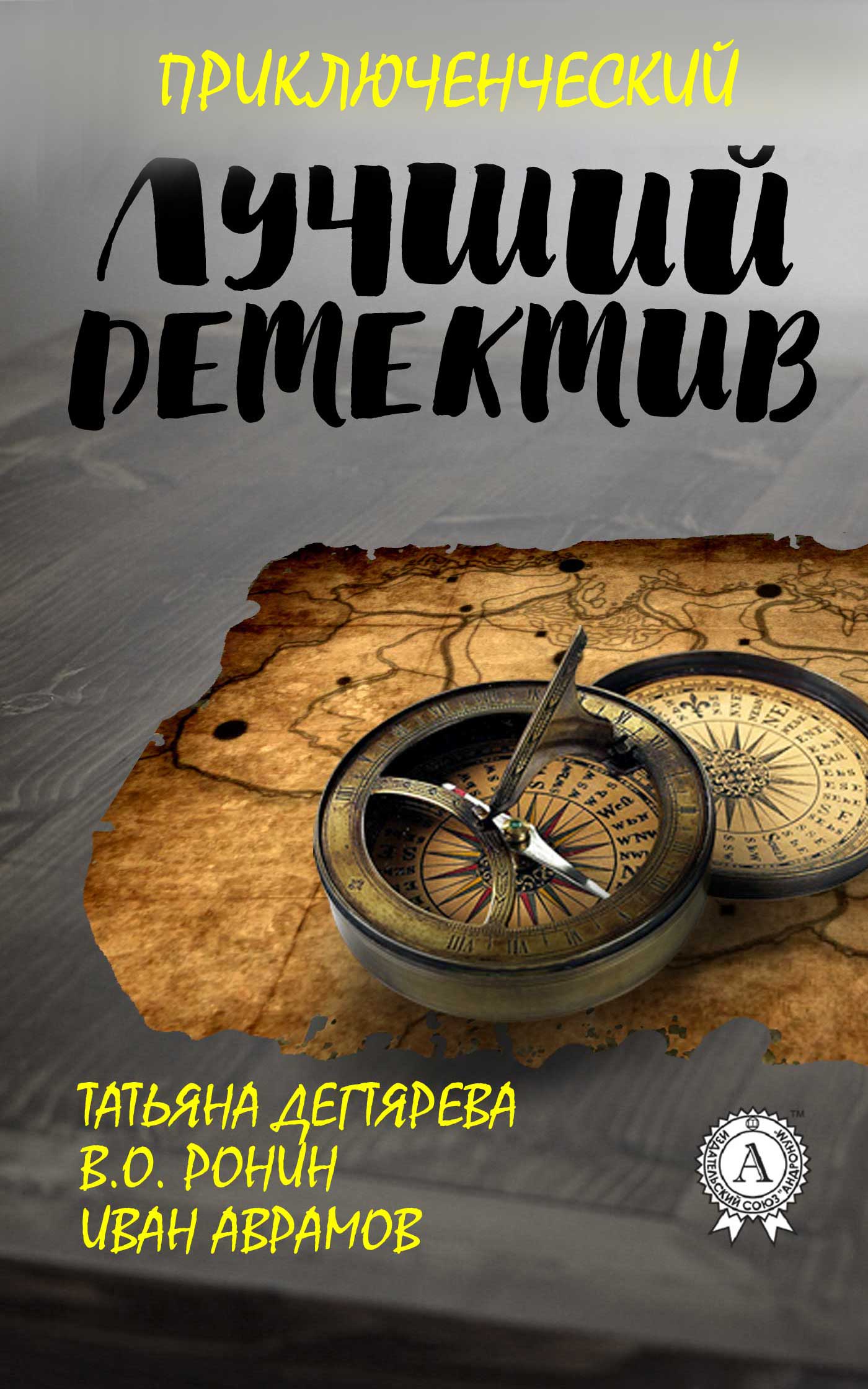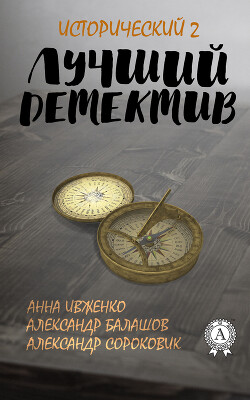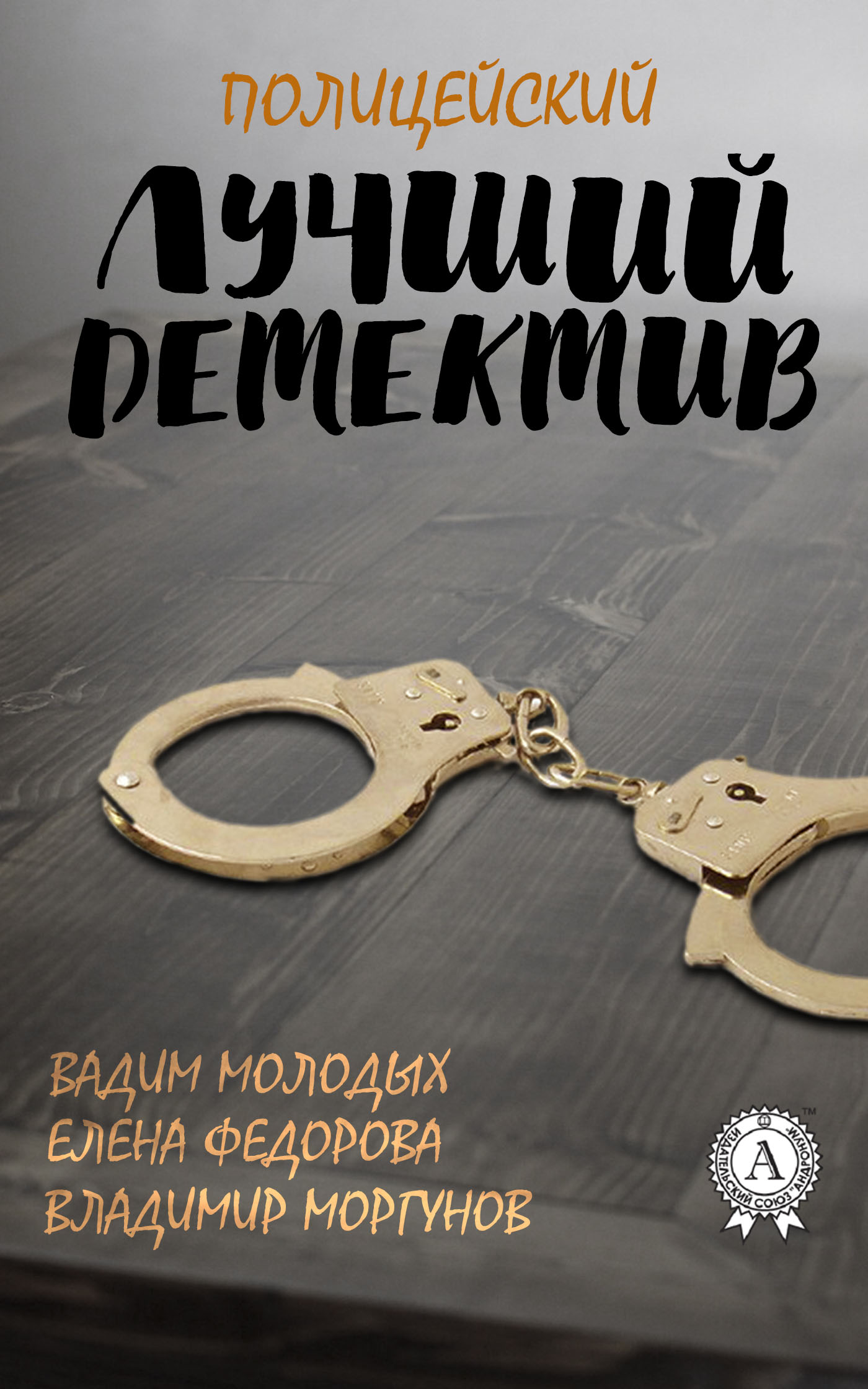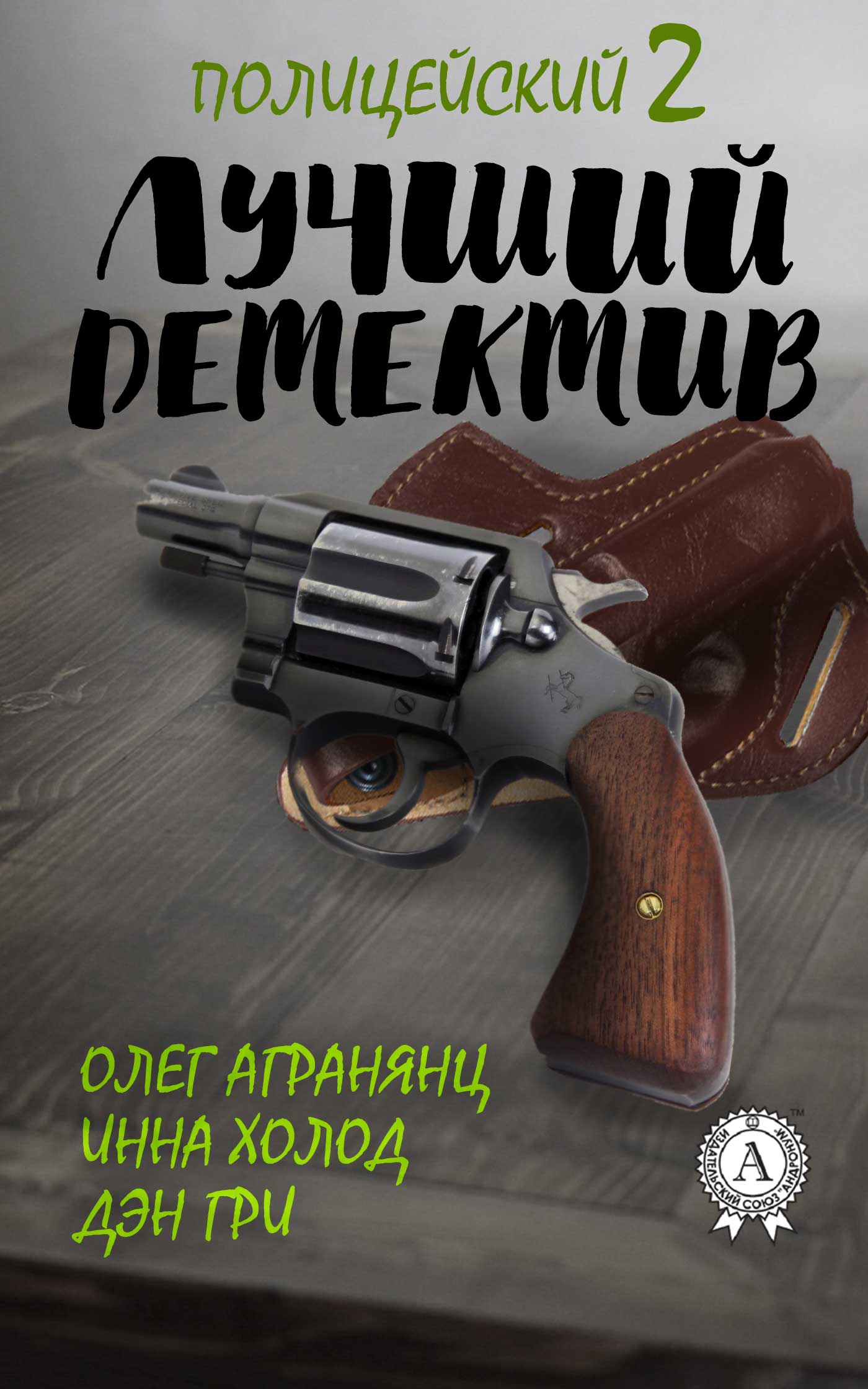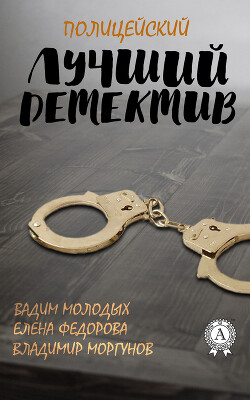— Не получится, — вздохнул Вальдшнепов.
— Почему? Он что, умер? — если честно, мне очень не хотелось, чтобы я стал виновным в смерти этого мерзавца. Хоть и ублюдок он, но все же человек.
— Не совсем.
— Что значит — не совсем? Если он умер, то умер чуть-чуть?
— Видите ли, Эд, его на рассвете обнаружили в палате с простреленной головой.
Я скис — эта новость выбила почву из-под моих ног.
— А что вы хотели у него узнать? — полюбопытствовал следователь.
— Ах, Владимир Юрьевич, теперь это уже не имеет никакого значения.
— Опять, Эд, вы что-то скрываете от меня, — с мягкой укоризной протянул Вальдшнепов.
Но выпытывать не стал: видимо, хорошо уже изучил мой характер.
Я же, кладя трубку, думал о том, что о местонахождении пансионата, где с людьми делают что хотят, мог бы рассказать Блынский, но это дохлый номер: вряд ли он, упрямец, расколется. А доказать, что водитель «бумера» и водитель машины, отвезшей Радецкого в Киев, одно и то же лицо, не удастся ни мне, ни кому-нибудь еще. Мало ли на свете мужчин с выдающимися и в буквальном, и в переносном смысле слова кадыками…
Глава XI
Утром я неторопливо, как четки, перебрал в уме все узловые моменты моего расследования и пришел к выводу, что правильная, по всей видимости, догадка осенила покойного Георгия Викторовича Уласевича, когда он связал воедино смерть Радецкого и ту опасность, которая нависла над Игорем Лучинным, который уже совсем скоро очутился в петле. Я почти стопроцентно уверился в том, что его сунули туда те, кто раньше выбросил с балкона Модеста Павловича. Но как отыскать этих убийц? Где находится пансионат, в котором работают профессиональные шантажисты? Зная, что надежды почти никакой, я все же решил встретиться с женой Лучина. А вдруг…
Изабелла Аркадьевна Лучина оказалась весьма приятной дамой лет сорока. Я отметил, что она сумела сохранить фигуру, — это выгодно подчеркивал длинный цветастый блузон и нарядные джинсовые брючки. Мне показалось, что именно о таких женщинах с красиво подчеркнутыми формами мечтают юные мальчики, чье воспаленное воображение навязчиво рисует сцены постельных утех. По крайней мере, именно таких соблазнительниц видел я еще 14-15-летним молокососом в своих грезах и снах наяву.
Конечно, Изабелла Аркадьевна уже оправилась от недавнего потрясения, но не совсем — едва речь зашла об Игоре Ивановиче, ее темные армянские глаза ощутимо увлажнились, однако она быстро взяла себя в руки, потянувшись к привычному успокоительному средству — сигарете. Некоторое время мы дружно наполняли голубым табачным дымом просторную гостиную, где на стенах что ни картина, то шедевр: Глущенко, Яблонская, Фальк, Марчук, Левич… Дымить, как сапожникам, рядом с такими полотнами мне показалось неприличным, но коль хозяйка не возражает, даже сама курит…
Старшая дочь Лучина принесла на подносе кофе и печенье, поставила его на журнальный столик, за которым мы сидели, и удалилась.
Изабелла Аркадьевна аккуратно загасила сигарету, взяла чашечку с кофе, поднесла ее к губам, но не отпила, а, вздохнув, произнесла:
— Значит, вы считаете, что мой муж и ваш дядя ушли из жизни не по своей воле?
Замечу, что, явившись сюда, лукавить я не стал, а причину визита объяснил почти теми же словами, в которые облек свою догадку или предположение Уласевич. Вдова Лучина в этом усомнилась — следствие не обнаружило на теле мужа никаких следов насильственной смерти. Как, между прочим, и в случае с Радецким, добавил я.
— Почти уверен. Даже больше — вполне могу обойтись без этого «почти». Понимаете, Изабелла Аркадьевна, у Модеста Павловича Радецкого не было ни малейшего повода сводить счеты с жизнью.
— Как и у Игоря. Он жил интересно, наполненно, порой, я бы сказала, чересчур.
Конечно, у меня не поворачивался язык свернуть на тему амурных похождений Лучина, насчет которых я бегло был просвещен Уласевичем, но сейчас я понял, что мне предоставлен некий шанс.
— Простите, но что вы подразумеваете под «чересчур»?
— Как вам сказать… Игорь был увлекающимся человеком и любвеобильным. Я знала, что у него есть связи на стороне — доходят ведь всякие отголоски, сплетни. Понимаете, Эд, Игоря моего хватало и на меня, и на других. Я ему это прощала. Во-первых, воспитание получила такое — у нас на Кавказе мужчинам вроде бы как дается индульгенция на подобного рода грехи, главное, чтоб они оставались в семье и заботились о ней. А во-вторых, я всегда делала скидку на то, в какой среде он вырос и вращается. Друзья-художники, доступные натурщицы… В третьих, на серьезный роман на стороне Игорь способен не был, так, легкие развлечения, пикантные похождения… Главное — он меня любил. Ласков был и со мной, и с детьми…
— То есть, «шерше ля фамм» отпадает? — осторожно спросил я.
— Наверное. Если кто-то и расправился с Игорем, как вы предполагаете, то, скорее всего, не из-за женщины. Погодите, дня за два до смерти Игорь был чем-то подавлен, хотя и старался этого не показывать. Хотел выглядеть веселым, но выходило это у него натужно. Я даже, смеясь, ему так и сказала.
— Его никто не посещал из незнакомых, посторонних людей?
— Нет. Впрочем, он постоянно находился в мастерской. Игорь любил говорить: «Ну, я ушел к себе на работу».
— Значит, ничего такого, что бы вас насторожило?
Изабелла Аркадьевна пожала красивыми покатыми плечами, задумчиво уставилась в одну точку — она явно копалась в памяти, она, это я гарантирую, была хорошим, замечательным человеком, который всегда старается пойти навстречу тому, кто просит о помощи. Опять закурив, женщина устремила на меня прямой взгляд.
— Если честно, Эд, меня, повторю, смутило его плохое настроение в последние дни жизни и одна непонятная фраза, брошенная им здесь, в квартире, по телефону. Я не подслушивала, просто находилась в соседней комнате, а он кому-то громко, в сердцах крикнул: «Будь он проклят, этот «Приют девственниц». С такой наглостью я еще никогда не встречался!» Я хотела спросить, о чем это он? Теперь думаю, может, так назывался холст, который Игорь хотел приобрести? Ведь он, как и ваш дядя, был заядлым коллекционером. Иногда, не поверите, я ревновала мужа к его собранию живописи. Спросила как-то: «Кто для тебя дороже — я или твоя драгоценная коллекция?» По-моему, он сказал чистую правду: «Конечно, коллекция. Ты — для меня одного, а она — для меня и всей страны, если не человечества». Я, помню, обиделась, но Игорь потом долго извинялся, говорил, что пошутил. И вот здесь он не был искренен. За свою коллекцию, многие картины, кстати, ему достались от отца, который тоже был одержим этой страстью, муж расстался бы с чем угодно, продал бы себя хоть дьяволу. Что поделаешь — фанатик… Но скажите, Эд, ведь и вправду странное название — «Приют девственниц»? Что бы оно могло означать?
— Затрудняюсь ответить, Изабелла Аркадьевна, — сказал я, поднимаясь со стула…
* * *
Легче, кажется, отыскать иголку в стоге сена, чем этот загадочный, неизвестно что из себя представляющий «Приют девственниц». Я внимательно, как семинарист Библию, изучил «Желтые страницы» — подобным названием и не пахло. Полистал телефонный справочник по городу и области — то же самое. Гостиницы, мотели, кемпинги, пансионаты, дома отдыха, как в Киеве, так и в его окрестностях — даже намека нет на какой-нибудь «Приют» при всей нынешней моде на старинные словечки. А спросить кого-то, так и язык не повернется — в названии этом, при всей его необычности, от которой пахнет, как мне кажется, каким-то средневековьем, есть что-то непристойное. Посмотрят на тебя и подумают: псих, что ли, маньяк, извращенец? Опять же, о каком приюте можно говорить, если с девственностью в наше время расстаются чуть ли не с пеленок?
На миг я подумал, что следует «озадачить» Вальдшнепова, ему-то легче навести справки, но, как это у меня уже исторически сложилось, тут же отказался от этой затеи. Зачем морочить голову человеку, если ничего еще не ясно? Мешало и другое: я ведь сам себе следователь… Наконец, третье: жалко отдавать в чужие руки то, до чего дошел собственными трудами, если не считать последнего письма дяди.