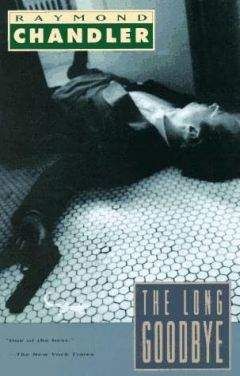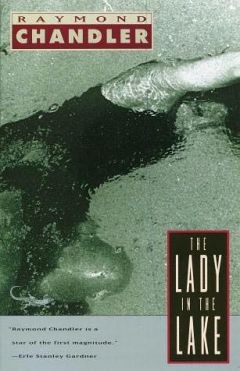Луна подернулась дымкой, но я все-таки поставил стакан, осторожно, осторожно, словно ветку розы в высокую вазу. Розы кивают головами в росе.
Может быть, я роза. Ну и росы на мне, братцы! Теперь пора наверх. Может, принять неразбавленного на дорогу? Нет? Ну, как скажешь. Взять с собой.
Чтобы было на что надеяться, если доберусь. За восхождение по лестнице положена премия. Дань уважения мне от меня. Я так красиво себя люблю, и что самое приятное – у меня нет соперников.
Через два интервала. Был там, спустился обратно. Не нравится мне наверху. У меня от высоты сердцебиение. Но все же стучу по клавишам машинки.
Какой же фокусник это подсознание. Если бы только оно работало по расписанию. Наверху тоже был лунный свет. Возможно, та же самая луна.
Однообразная какая. Приходит и уходит, как молочник, и лунное молоко всегда одинаковое. Лунное молоко всегда – стоп, приятель. Что-то у тебя заело.
Сейчас не время влезать в описания луны. Тебя самого описать – хватит на всю проклятую долину.
Она спала на боку, беззвучно. Поджав колени. Слишком тихо спит, подумал я. Во сне всегда издаешь какие-то звуки. Может, не спит, только старается уснуть. Подойти бы поближе, я бы понял. Но мог упасть. У нее открылся один глаз – или мне показалось? Она посмотрела на меня – а, может, нет? Нет. Она бы села и сказала: «Тебе плохо, дорогой? Да, мне плохо, дорогая. Но не обращай внимания, дорогая, потому что это плохо – мое плохо, а не твое, и спи спокойно, красавица, и не помни ничего, и никакой грязи от меня к тебе, и пусть ничего к тебе не пристанет мрачного, и серого, и гадкого».
Паршивец ты, Уэйд. Три прилагательных, паршивый ты писатель. Неужели, паршивец, не способен выдать поток сознания без трех прилагательных, черт тебя побрал? Я снова спустился, держась за перила. Внутренности подпрыгивали на каждом шагу, я успокаивал их обещаниями. Добрался до первого этажа, потом до кабинета, потом до дивана, и подождал, когда успокоилось сердце. Бутылка тут как тут. У Уэйда бутылка всегда под рукой. Никто ее не прячет, не запирает. Никто не говорит: «Может быть, хватит, дорогой? Тебе будет плохо, дорогой». Никто так не говорит. Просто спит на боку, нежио, как розы.
Я даю Кэнди слишком много денег. Ошибка. Надо было начать с орешков и постепенно дойти до банана. Потом несколько монеток, потихоньку, полегоньку, чтобы все время ждал еще. А если кинуть сразу большой кусок, он привыкает. В Мексике можно месяц прожить, купаясь в роскоши и пороке, на то, что здесь тратишь в один день. А что бывает, когда он привыкает? Ему начинает вечно не хватать, и он все время ждет еще. Может, это ничего. А может, надо было убить эту глазастую сволочь. Из-за меня уже умер хороший человек, чем он хуже таракана в белой куртке?
Забыть Кэнди. Притупить иголку всегда легко. Того, другого, я не забуду никогда. Это выжжено на моей печени зеленым пламенем.
Пора звонить. Теряю контроль. Они прыгают, прыгают. Надо скорей кого-нибудь позвать, пока эти розовые не заползали у меня по лицу. Скорей позвать, позвать, позвать. Вызвать Сью из Сиу-Сити. Алло, барышня, дайте междугородную. Алло, междугородняя, дайте Сью из Сиу-Сити. Ее номер? Нет номера, только имя. Поищите, она гуляет по 20-й улице, на теневой стороне под высокими хлебными деревьями с торчащими колосьями... Ладно, междугородная, ладно. Отменяем всю программу, только хочу вам сказать, вернее, спросить: "Кто будет платить за все шикарные приемы, которые Гифорл закатывает в Лондоне, если вы отмените мой заказ? Да, вы отмените мой заказ?
Да, вы считаете, что с работы вас не выгонят. Вы считаете. Дайте-ка поговорю прямо с Гиффордом. Соедините меня. Камердинер как раз принес ему чай. Если он не может говорить, пошлем кого-нибудь, кто может.
Зачем же я все это написал? Что я пытался выбросить из головы?
Позвонить, надо позвонить сейчас же. Очень плохо, очень, очень...".
Вот и все. Я сложил листки вчетверо и спрятал их во внутренний карман, за блокнот. Подошел к стеклянным дверям, распахнул их и вышел на террасу.
Лунный свет был для меня слегка подпорчен. Но в Беспечной Долине стояло лето, а лето до конца не испортишь. Я смотрел на неподвижное бесцветное озеро, думая и прикидывая. Затем я услышал выстрел.
Теперь свет падал на галерею из двух дверей – Эйлин и его. Ее спальня была пуста. Из другой двери доносились звуки борьбы, я одним прыжком очутился на пороге и увидел, что она перегнулась через кровать и борется с ним. В воздухе мелькнул черный блестящий револьвер, его держали две руки, большая мужская и маленькая женская, но и та, и другая – не за рукоятку.
Роджер сидел в постели и отталкивал Эйлин. На ней был светло-голубой халат, простеганный ромбиком, волосы разметались по лицу. Ухватившись обеими руками за револьвер, она резко выдернула его у Роджера. Я удивился, что у нее хватило на это силы, хотя он и был одурманен. Он упал на подушку, выпучив глаза и задыхаясь, а она отступила на шаг и налетела на меня.
Она стояла, прислонившись ко мне, и крепко прижимала револьвер к груди обеими руками. Ее сотрясали рыдания. Я потянулся за револьвером.
Она резко развернулась, словно только сейчас поняла, что это я. Глаза у нее широко раскрылись, она обмякла и выпустила револьвер. Это было тяжелое неуклюжее оружие, марки «Уэбли», без бойка. Дуло было еще теплое.
Поддерживая ее одной рукой, я сунул револьвер в карман и взглянул на Уэйда поверх ее головы. Никто не произнес пока ни слова.
Потом он открыл глаза, и на губах у него проступила знакомая усталая улыбка.
– Ничего страшного, – пробормотал он. – Просто случайный выстрел в потолок.
Я почувствовал, как она напряглась. Потом отстранилась от меня. Глаза у нее были ясные и внимательные. Я ее не удерживал.
– Роджер, – произнесла она вымученным шепотом, – неужели дошло до этого?
Он тупо уставился перед собой, облизал губы и ничего не ответил. Она подошла к туалетному столику, оперлась на него. Механически подняв руку, откинула волосы с лица. По всему ее телу пробежала дрожь.
– Роджер, – снова прошептала она, качая головой, – бедный Роджер. Бедный, несчастный Роджер. Он перевел взгляд на потолок.
– Мне приснился кошмар, – медленно сказал он. – Над кроватью стоял человек с ножом. Кто – не знаю. Чуть-чуть похож на Кэнди. Это же не мог быть Кэнди.
– Конечно, не мог, дорогой, – тихо сказала она. Отойдя от туалетного столика, она присела на край кровати. Протянула руку и стала гладить ему лоб. – Кэнди давно пошел спать. И откуда у него нож?
– Он мексиканец. У них у всех ножи, – сказал Роджер тем же чужим, безликим голосом. – Они любят ножи. А меня он не любит.
– Вас никто не любит, – грубо вмешался я. Она быстро обернулась.
– Не надо, пожалуйста, не надо так. Он не знал. Ему приснилось.
– Где был револьвер? – проворчал я, наблюдая за ней и не обращая на него никакого внимания.
– Ночной столик. В ящике. – Он повернул голову и встретился со мной глазами.
В ящике не было револьвера, и он знал что мне это известно. Там были таблетки, всякая мелочь, но револьвера не было.
– Или под подушкой, – добавил он. – У меня все путается. Я выстрелил один раз, – он с трудом поднял руку и указал? вон туда.
Я взглянул вверх. В потолке вроде и вправду было отверстие. Я подошел ближе, чтобы получше разглядеть. Да, похоже на дырку от пули. Пуля из этого оружия могла пройти насквозь, на чердак. Я вернулся к постели и сверху окинул его суровым взглядом.
– Чушь. Вы хотели покончить с собой. Ничего вам не приснилось. Вы изнемогали от жалости к себе. Револьвера не было ни в ящике, ни под подушкой. Вы встали, принесли его, легли обратно в постель и решили поставить точку на всей этой гадости. Но вам, видно, храбрости не хватило.
Вы выстрелили так, чтобы ни во что не попасть. Тут прибежала ваша жена ? этого-то вы и хотели. Жалости и сочувствия, приятель. Больше ничего. И боролись-то вы невзаправду. Если бы не позволили, она не отняла бы у вас револьвер.
– Я болен, – сказал он. – Но, может, вы и правы. Какая разница?
– Разница вот какая. Вас могут положить в психушку. А тамошний персонал не добрее, чем охранники на каторге в Джорджии.
Эйлин внезапно встала.
– Хватит, – резко бросила она. – Он действительно болен, и вы это знаете.
– Ему нравится быть больным. Я просто напоминаю, к чему это может привести.
– Сейчас не время ему объяснять.
– Идите к себе в комнату. Голубые глаза сверкнули.
– Как вы смеете...
– Идите к себе в комнату. Если не хотите, чтобы я вызвал полицию. О таких вещах полагается сообщать. Он криво усмехнулся.
– Вот-вот, зовите полицию, – сказал он, – как вы сделали с Терри Ленноксом.
На это я и глазом не моргнул. Я по-прежнему наблюдал за ней. Теперь она казалась ужасно усталой, и хрупкой, и очень красивой. Вспышка гнева прошла.
Я протянул руку и коснулся ее плеча.