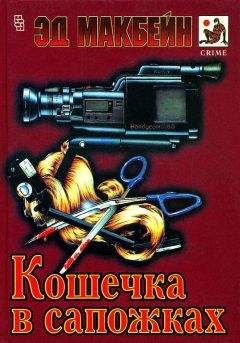В ночь Праздника Всех Святых — это было через четыре дня после того разговора — она сказала мне, что им придется снимать ночью, это будет съемка костюмированной вечеринки, и ей нужно там присутствовать. Я согласился. Но я последовал за ней. Она поехала в „фольксвагене“ на Фэтбэк-Кей, я за ней в фургоне, на безопасном расстоянии. Я хотел посмотреть, за что платят пятнадцать тысяч в неделю.
Я мог убить их всех там же, на месте, после того, что увидел. Но я услышал Глас Всевышнего, сказавшего мне: „Подожди, ибо не тебе судить грехи ее, ибо дошли ее грехи до Господа, и Он покарает ее“. Я мог бы убить их всех. Я стоял там в темноте и видел, что они делают. Господь простил бы меня… И ведали они, что творят… Но… эта женщина. Блондинка, которая давала указания, что им делать. А они боготворили этого дракона в женском обличье. „И поклонились Зверю, говоря: кто подобен Зверю сему, кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть…“[9]
В ту ночь я следовал за ней до самого дома.
Я еще не знал ее имени.
Я впервые следил за ней.
Как мне и пообещала Мэг, они закончили фильм пятого ноября. Больше не о чем беспокоиться, сказала она. Отныне она будет дома каждый день и больше никакого шитья костюмов. Кошечка будет с тобой.
А я все преследовал Пруденс Энн Маркхэм.
Потому что я подумал…
Этот фильм…
Люди увидят, как Мэг, голая и бесстыдная, проделывает жуткие вещи с этой черной скотиной и другими. Я еще не знал, как поступлю с Мэг, но я знал, что должен забрать фильм, чтобы его не смогли увидеть люди, ибо Господь не желал этого. Я должен был его уничтожить.
Она работала над ним в студии на Рэнчер-роуд. Ездила туда каждый вечер, забирала кассеты с фильмом из камеры хранения, отвозила в студию и отвозила их обратно, когда заканчивала. У нее был ключ от ячейки.
Я решил, что мне нужно заполучить этот ключ.
Чтобы получить фильм. И уничтожить его.
Я следовал за ней каждую ночь, за этим зверем в образе женщины.
Чтобы уничтожить фильм. Уничтожить зверя, виновного в том, что стало с Мэг.
Но я еще не знал, как поступлю с Мэг. Это пришло ко мне позже.
Я не так глуп. Я знал, что мне придется уничтожить эту женщину, чтобы получить фильм, который она каждый вечер таскала в студию. Но как бы я смог послужить Господу, если бы сам был уничтожен? Нет, нет, я не глупец.
Я узнал, что она была замужем, я видел ее мужа возле их дома на Помпано-Уэй. Как мог муж помогать своей жене делать такой фильм? Разве что помогать с распространением его? И мне пришла идея, что я могу одним разом покончить с ними обоими, а после уничтожить и фильм.
Я забрался в их дом десятого ноября, проследив, пока они оба не уйдут, я знал, что дома никого нет. Выкрал нож и одежду и еще кое-что. Эти все вещи еще у меня, поэтому никто не узнал, что мне было нужно. Я украл и кое-что из ее одежды. Это тоже у меня, в комоде Мэг, где она хранила свои вещи, пока я их не сжег. Я до сих пор еще иногда рассматриваю вещи этой женщины, которая могла заниматься такими делами. Смотрю на ее вещи и размышляю. Все еще размышляю. После кражи я немного подождал. Решил, что лучше обождать недельку, чтобы никто ни о чем не догадался. Потом решил, что десять дней будет еще лучше. Проследил за ней до студии. Подождал ее на улице. Она вышла, это было где-то без двадцати одиннадцать, примерно так. Мне хватило меньше минуты, чтобы разделаться с ней. Вся моя одежда — его одежда была пропитана греховной кровью. Я взял жестянки с фильмом и звукозаписью, ее записную книжку и ключи. От Рэнчер-роуд до моего дома минут десять езды, еще десять минут — чтобы принять душ и переодеться, к этому времени я уже запер Мэг в генераторной, хотя еще не знал, как с ней поступлю дальше. Я сложил окровавленную одежду и нож в пластиковый мешок для мусора и около одиннадцати уехал из дому. До Помпано-Уэй доехал минут за пятнадцать и был там примерно в четверть двенадцатого или около того. Я закопал окровавленную одежду и нож на заднем дворе, за домом, на клумбе. Потом поехал в камеру хранения, открыл ячейку и забрал все, что там оставалось. Я был там около полуночи. И взял все, что там находилось.
Я много раз смотрел этот фильм.
И все еще смотрю.
Никогда в жизни я не видел того, что было в этом фильме.
Людям нельзя смотреть этот фильм. Когда-нибудь я сожгу его.
Потому что дьявол должен гореть в огне».
— Мистер Диль, — сказал Хэггерти, — я показываю вам мгновенное фото, снятое управлением шерифа сегодня вечером на Тимукуэн-Пойнт-роуд, 3755. Это ваша жена Маргарет Диль?
— Но сорная трава должна быть выполота с нивы плодоносящей, — произнес Диль. — С корнем.
— Сэр! На фотографии, которую я вам показываю, женщина в красных сапожках… Это ваша жена Маргарет Диль?
— …потому что муж — глава своей жены, подобно тому как Иисус глава Церкви…
— Это — ваша жена?
— Подобно тому как Церковь подвластна Иисусу, жена подвластна мужу своему.
— Мистер Диль, вы можете сказать, что случилось с вашей женой? Эта женщина на фотографии — ваша жена?
— Что?
— Ваша жена? Она была вашей женой?
— Была моей женой…
— Была вашей женой? Вы хотите сказать, что она больше не начнется вашей женой, потому что мертва?
— Мертва? Нет, нет.
— Сэр, эта женщина на фотографии… У нее ампутированы руки…
— Да, знаю.
— Вам известно, кто ампутировал ей руки? И отрезал ей груди?
— Это сделал я.
— Значит, мистер Диль… Вы убили свою жену, Маргарет Диль?
— Нет. Я убил ее? Нет, нет. Я собирался сегодня отпустить ее на улицу. Возле яслей для скота.
— Выбросить на улицу?
— Отпустить ее на улицу, чтобы все видели ее срам, потому что срам — даже говорить о вещах, совершаемых втайне.
— Но ваша жена мертва, сэр. Медицинская экспертиза…
— Нет, сэр.
— Мистер Диль, медицинская экспертиза установила, что она мертва уже достаточно давно…
— Тогда с кем я разговаривал? Когда я говорил с ней, разве она не понимала мудрости слов моих?
— Вы отрезали ей руки, мистер Диль?
— Пальцы.
— Сэр?
— Я начал с пальцев. Чтобы наказать ее за то, что она творила своими руками. Потому на моих руках нет греха, и когда вы протянете руки свои, я отвращу от них свой взор…
— Мистер Диль…
— Да, и когда вы будете молиться мне, я отвращу слух свой. Ваши руки в крови…
— Когда вы говорите, что начали с пальцев…
— Это не так.
— Сэр?
— Я сначала отрезал волосы. Везде. По всему телу. С головы, ниже… Везде.
Тишина.
Хэггерти повернулся к Баннистеру.
— Скай? Ты хочешь что-то спросить? — сказал он.
— Мистер Диль, — произнес Баннистер, — меня зовут Скай Баннистер, я прокурор штата. Я хочу сказать, не можем ли мы быть вам чем-нибудь полезны, чтобы вы пришли в себя. Насколько я понимаю, вы сначала отрезали своей жене пальцы, потом руки…
— Сначала волосы.
— Затем пальцы…
— Нет, язык, я отрезал ей язык. Ее язык никого не слушался. Это был неискупимый грех, полный смертоносного яда. А язык — это огонь, слово — беззаконие. Потому что язык, среди других членов, правит телом и сеет пламя. И это пламя геенны огненной.
— Вы отрезали ей язык…
— …пусть женщина внимает вам в молчании и покорности…
— …а затем пальцы, кисти рук… руки…
— Она своими руками сожгла Заветы Господа нашего, и грешна перед Ним, и жир грудей ее будет искуплением перед Господом… Он увидит ее сегодня ночью, когда я оставлю ее возле яслей. Увидит ее голой, эту шлюху, кроме сапог. Я зашил ей рот, и она уже никогда не раскроет его, чтобы повторить свои мерзости. Я зашил ее греховную щель, чтобы она никогда не воспользовалась ей для греха.
Скай Баннистер вздохнул.
Было половина двенадцатого ночи. Сочельник. На автостоянке перед госпиталем переливалась огнями рождественская елка.
— Мистер Диль, — произнес он, — вы не хотите еще что-нибудь добавить к тому, что рассказали нам?
— Вы найдете кое-что в воде, — сказал Диль.
— Сэр?
— Как бы ни был грешен и смертен человек, какое пьяное беззаконие устоит перед водой?
— Мистер Диль, вы хотите что-нибудь добавить или изменить в своих показаниях?
— Нет, я не хочу ничего изменить в том, что я сделал.
Баннистер посмотрел на часы.
— Время вышло. Двадцать три часа тридцать одна минута, — сказал он в микрофон, затем стенографистке: — Стоп.
Они вышли.
В коридоре Баннистер сказал:
— Люди Миза были правы.
— Что, что? — не понял Мэтью.
— Комиссия по порнографии при генеральном прокуроре. Они были правы. Порнография ведет к насилию.
Мэтью ничего не ответил.
Утром на Рождество он раздумывал, чем бы заняться.
Он уже сообщил Маркхэму, что обвинение против него снято и он свободен. Свободен, чтобы снова погрузиться в эту проклятую жизнь, как он когда-то ее назвал.