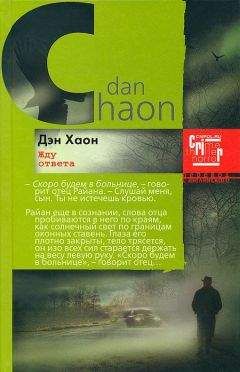А Люси ничего не сделала. Лишь стоически наблюдала, словно смотрела особенно жуткую телепрограмму о жизни природы, где шакалы пожирают детеныша гиппопотама.
Бедная Патрисия! — думала она теперь, поднося руку к горлу, которое слегка сжалось; лицо чуть онемело, и его покалывало иголками.
Сказала себе, что никаких приступов страха у нее не будет.
Она контролирует свой организм и не поддастся панике. Положила руки на колени, начала ровно дышать, не сводя глаз с дверцы бардачка.
Представляя, что в нем лежат деньги из сейфа. Что они не в пикапе. Они в «мазерати», едут не по песчаным холмам Небраски — которые, как сейчас видно, даже не песчаные, — а плывут по бескрайнему озеру из округлых холмов, покрытых тонкой серой травой и камнями.
Они в «мазерати» едут по дороге, которая ведет к океану, к синему средиземноморскому океану с плавающими парусниками и яхтами. Она закрыла глаза и медленно наполнила легкие воздухом.
Открыв глаза, почувствовала себя лучше, хоть по-прежнему сидела в пикапе, по-прежнему была в Небраске, где на горизонте громоздятся какие-то причудливые горы. Как они называются — столовые? Похожи на марсианские.
— Джордж, — сказала она через минуту, когда взяла себя в руки. — Я вдруг вспомнила о «мазерати». Что мы с ним будем делать?
Он ничего не сказал. Необычно долго молчит, и Люси подумала, что как раз потому и занервничала — разговор, несмотря ни на что, подбодрил бы ее. Хорошо бы, чтобы он, как обычно, положил руку ей на ногу.
— Джордж! — сказала она. — Ты живой? Принимаешь мысленные сообщения?
Наконец, он оглянулся.
— Отвыкай называть меня Джорджем, — сказал наконец Джордж Орсон далеко не тем утешительным тоном, который хотелось услышать. Фактически довольно суровым, что ее огорчило.
— Как я понимаю, — сказала она, — ты хочешь, чтобы я звала тебя «папой».
— Правильно, — сказал Джордж Орсон. — Можешь просто говорить «отец», если предпочитаешь.
— Потрясающе, — сказала Люси. — Еще хуже, чем «папа». Почему нельзя называть тебя Дэвидом или еще как-нибудь?
И Джордж Орсон строго взглянул на нее, как на настоящую капризную пятнадцатилетнюю девочку.
— Потому, — сказал он. — Потому что ты предположительно моя дочь. Это неуважительно. Люди обращают внимание, когда дети называют родителей по имени, особенно в таком консервативном штате, как этот. А нам не надо, чтобы на нас обращали внимание. Не надо, чтобы нас вспомнили после отъезда. Разумно?
— Да, — сказала она. Сложила руки на коленях и сделала выдох, когда сердце снова затрепетало. — Да, папа, — сказала она. — Разумно. Но искренне надеюсь, папа, что ты не станешь говорить со мной таким снисходительным тоном всю дорогу до Африки.
Он опять посмотрел на нее, в уголке глаза мелькнула искра, проблеск гнева, отчего она внутренне содрогнулась. Прежде не видела его сердитым по-настоящему и теперь поняла, что не хочет увидеть. Неясно почему, но вдруг интуитивно почувствовалось. Он был бы холодным, требовательным и нетерпеливым отцом, если бы у него когда-нибудь были дети.
Так она подумала, хоть его выражение почти моментально смягчилось.
— Слушай, — сказал он. — Милая, я просто немного нервничаю. Пойми, дело очень серьезное. Помни, что ты должна откликаться на «Брук» и никогда, никогда не называть меня Джорджем. Это крайне важно. Знаю, трудно привыкнуть, но это ненадолго.
— Понимаю, — сказала она и кивнула, снова глядя на бардачок. За окном виднеется гора, похожая на вулкан или на гигантскую воронку.
— Видишь там, впереди? — сказал Джордж Орсон — Дэвид Фремден. — Чимни-Рок. Национальный исторический памятник.
— Да, — сказала Брук.
Дико снова быть дочерью. Даже ненастоящей. Прошло много времени с тех пор, как она вспоминала настоящего родного отца, долгие месяцы сознательно подавляла воспоминания, огораживала стенами и ширмами, заталкивала вглубь, если они угрожали материализоваться в повседневных мыслях.
Но когда произнесла слово «папа», с ними стало труднее справляться. Отец всплыл перед мысленным взором, как джинн из откупоренной бутылки, — доброе честное круглое лицо, могучие плечи и лысая голова. Кажется, никогда в жизни на нее не сердился и не огорчался, и хоть она не верит в духов и в загробную жизнь, хоть не верит, в отличие от Патрисии, будто покойные родители витают над ними, как ангелы…
…однако внутри что-то дрогнуло, когда она назвала Джорджа Орсона «папой». Легкий укол вины, словно отец услышал, что она предала его, и впервые после смерти склонился над ней, ощутимый, не сердитый, но как бы обиженный, и ей стало стыдно.
Видно, она по-настоящему его любила.
Знала это, но не позволяла себе так думать, поэтому признание оказалось неожиданным.
Отец присутствовал в доме как-то незаметно, не особо высказывал свое мнение о воспитании дочек, хотя Люси уверена, что по характеру она больше похожа на него, чем на мать. Он был скрытный, как Люси, с тем же циничным юмором; помнится, как они вместе тайком бегали на фильмы ужасов, запрещенные матерью — Патрисии снились кошмары даже от масок на Хеллоуин, даже от киноафиш, не говоря уже о самих фильмах.
А Люси не боялась. Они с отцом смотрели те фильмы не для того, чтобы трястись от страха. Фильмы ужасов на удивление расслабляли, для отца и для Люси это было нечто вроде музыки, которая удостоверяет их отношение к миру. Они это понимали, и Люси никогда не пугалась по-настоящему. Время от времени, когда выскакивало чудовище или убийца, хватала отца за руку, прижималась к нему, и они переглядывались. Улыбались друг другу.
Понимали друг друга.
Все это вернулось, вспомнилось, пока они с Джорджем Орсоном ехали, не говоря ни слова, и она прижималась щекой к стеклу, глядя, как с поля взлетают птицы, сбиваются в стаю, мчатся мимо. Мысли не четко формируются в голове, но летят быстро, скапливаются, уплотняются.
— О чем думаешь? — спросил Джордж Орсон, и, когда он заговорил, ее мысли рассыпались, распались на фрагменты воспоминаний, как птицы, отделившиеся от стаи и вновь превратившиеся в отдельных птиц. — Вижу, глубоко задумалась, — сказал Джордж Орсон.
Сказал папа.
И Люси пожала плечами.
— Не знаю, — сказала она. — По-моему, просто побаиваюсь.
— Ах, — сказал он. Снова перевел взгляд на дорогу, легонько ткнув указательным пальцем в дужку темных очков на переносице. — Абсолютно естественно.
Протянул руку, похлопал ее по бедру, и она приняла легкий жест, хоть не знала, чья это рука — Джорджа Орсона или Дэвида Фремдена.
— Поначалу трудно, — сказал он. — Надо переключиться. Надо пережить этот шок. Привыкаешь к одному образу, к одной личности — при переходе возникает некий когнитивный диссонанс. Точно знаю, о чем говорю.
Он провел ладонью по рулевому колесу, словно формируя его, вылепляя из глины.
— Страх и тревога! — сказал он. — Сколько раз я испытывал это! Знаешь, особенно трудно впервые, особенно потому, что ты столько вложил в свою личность. Растешь, представляя себя настоящим, помнишь о прочных связях с родными, знакомыми, от которых пришлось отказаться, оставить позади…
Он вздохнул и даже опечалился, возможно вспоминая покойную мать, утонувшего брата, какое-то давнее семейное плавание в надувной лодке, когда в озере еще было полно воды.
Или нет.
Внезапно стало ясно.
Что говорил Джордж Орсон? «Я побывал разными людьми. Десятками».
Она уже долго находится в другой вселенной, плывет за Джорджем Орсоном, как в трансе. И вдруг на пути к далекой почтовой конторе очнулась. Встрепенулась, воспрянула — все расставилось по местам.
Не было у него никакого брата-близнеца.
Вырос он не в Небраске. Никогда не учился в Йельском университете. Сплошное вранье.
— Боже, — сказала она, тряхнув головой. — Какая я дура.
Он взглянул на нее внимательно, с любовью.
— Нет-нет, — сказал он. — Ты не дура, детка. В чем дело?
— Просто я кое-что поняла, — сказала Люси, глядя на его руку, лежавшую, по обыкновению, у нее на бедре. Всегда узнает эту руку, потому что держала ее, подносила к губам, ощупывала ладонь кончиками пальцев. — Тына самом деле не Джордж Орсон, правда? — сказала она и…
Он не шевельнулся. Все так же вел машину. В тех же темных очках, в которых отражались дорога и катящийся горизонт, тот же самый мужчина, которого она знала.
— На самом деле, — сказала она, — ты не Джордж Орсон.
— Нет, — сказал он.
Сказал тихо, мягко, как бы сообщая дурную весть, и ей вспомнились полицейские, которые пришли к ним в день гибели родителей и осторожно с интервалами сообщили: «Произошла ужасная авария. Ваши родители тяжело пострадали. Приехали санитары. Ничего не смогли сделать».