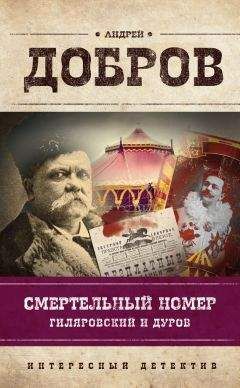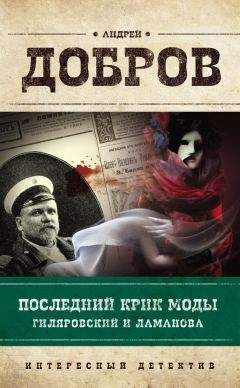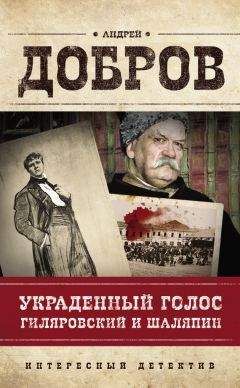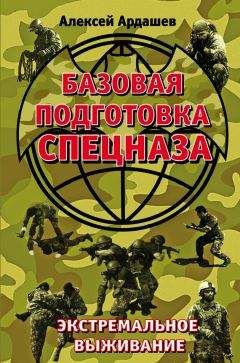Ознакомительная версия.
– Так это был Войнаровский? И вы говорите, что его самоубийство связано именно с этой историей?
– Да.
– Несчастный Войнаровский! Я ведь знал его… И ведь никогда не мог подумать…
– Павел Семенович! Теперь ваша очередь!
– Ну ладно!
Зиновьев подтянул к себе с края стола папку, надел пенсне и заглянул в одну из бумаг.
– Ага! Точно. Ваш фокусник умер от отравления стрихнином.
– Стрихнином? – удивился я. – Не экстрактом эфедры?
– Ну что вы, Владимир Алексеевич, – укоризненно посмотрел на меня патологоанатом поверх пенсне, – думаете, я стрихнина не отличу от эфедрина? Эфедрин присутствует в анализах. Но все же – не он причина смерти. Причина – высокая доза стрихнина. Непонятно, как он вообще его проглотил. Вы никогда не пробовали стрихнин?
– Нет, конечно!
– Он очень горький.
– Но стрихнин – это же яд!
– Да. Однако в малых дозах его используют для, например, улучшения работы кишечника.
Я поставил стакан с допитым чаем на стол и постучал по нему пальцами.
– Странно, – сказал я доктору Зиновьеву, – Гамбрини пил эфедру против приступов астмы. Откуда же взялся стрихнин? Их же нельзя перепутать?
– Нет. Невозможно.
– Странно. Вы уверены насчет стрихнина?
– Абсолютно! – доктор Зиновьев даже пристукнул ладонью по столу. – И даже без анализа содержимого желудка. Милый мой, знаете, сколько в этих стенах побывало тех, кто отправился на тот свет с помощью стрихнина? Десятки! Я таких на глазок могу отличить, не вскрывая. Характерно выпученные глаза, сильный мышечный тонус, переходящий в окоченение, разорванные капилляры кожных покровов лица – это когда кровь идет туда под таким давлением, что капилляры рвутся, – и еще несколько признаков. Тут и гадать нечего. Смерть страшная! Человека так выгибает назад, что перекрывается доступ воздуха. Некоторые просто умирают от удушья.
– Он умер от удушья?
– Нет, доза была сильнее. Хотя в физическом выражении, по объему, она могла быть и небольшой. Четыре-пять миллиграммов.
– Вот как…
– Кстати! – Зиновьев выскочил из-за своего стола и присел на стол передо мной. – Вы знаете, что у экстракта эфедры и стрихнина есть похожий эффект?
– Какой?
– Они возбуждают. В малых дозах, конечно. Усиливается чувствительность. Человек становится активней, превращается в живой радар. Улавливает малейший шум, малейшее движение. Его движения становятся быстрей. Вот – как у меня! – и доктор расхохотался, увидев выражение моего лица. – Да нет! Я просто чай пью крепкий! Мне и этого достаточно!
– Ух! – выдохнул я. – Знаете, Павел Семенович, вы меня сейчас по-настоящему испугали.
– Испугал? Это хорошо. Это – эмоция полезная.
– Да, испугали, но и навели на одну мысль.
– Ну вот! – улыбнулся Зиновьев. – И от меня польза!
– Еще какая! И не в первый раз!
– Только помните наш уговор – никому ни слова!
– Слушаюсь!
– И еще – не ждите следующего трупа, пожалуйста. как разведаете это дело – загляните, расскажите мне. Договорились?
Я тепло попрощался с Зиновьевым и поехал домой обедать.
Не успел я сбить снег с ботинок, как дверь отворилась, и Маша с великим неудовольствием сообщила, что в гостиной меня ждет какой-то пьяница. Пришел, расселся, и теперь она с сестрой вынуждены прервать Великую Рождественскую Уборку. Я выдал ей три рубля, чтобы они сходили купить еще оберточной бумаги, белого холста и бечевки, и пошел смотреть, кого это бог послал. Скажу честно, гостей я приводил часто, и не все они вели себя, как серые мышки, – впрочем, под стать хозяину. И Маша моя уже привыкла к такому образу жизни, взяв за правило не жаловаться, а всякий раз накрывать стол и сидеть в уголке, в старом кресле, наблюдая как бы в домашнем театре за нашими сидячими спектаклями. Но в те дни она подхватила всегдашнюю московскую предпраздничную горячку, оттого и гости теперь вызывали в ней раздражение.
Итак. В гостиной я увидел Владимира Леонидовича Дурова. И удивился изменениям, произошедшим с ним. Одет он был небрежно. Черные волосы торчали во все стороны, а кончики усов были опущены вниз, явно лишенные заботливой руки хозяина. И да – от него несло перегаром. К тому же было заметно, что и те старые дрожжи он уже успел оросить новым возлиянием.
– Вот те на! – воскликнул я. – Владимир Леонидович! Что случилось?
– А то вы не знаете! – проворчал Дуров. – Вам что, следователь ничего не рассказал?
– Нет, – честно ответил я. – Вчера он допросил меня в кабинете Саламонского, но ничего, кроме некоего нового поворота в деле, так и не объявил.
– Новый поворот! – скривился Дуров. – А знаете, что этот так называемый новый поворот это я!
– Как?
– А вот так! Знаете ли вы, что пока я был на арене, полиция обыскала мою гримуборную и нашла пузырек из-под яда?
– У вас?
– Да! Мне пришлось задержаться чуть не до полуночи для допроса.
– Что же вас спрашивали?
– Да вот – откуда у меня этот чертов… Этот чертов пузырек! – Дуров сжал кулаки и поднял их. Он был на грани бешенства.
– А откуда он у вас? – спросил я, как мне показалось, предельно осторожно.
Дуров аж взвизгнул:
– Да не знаю я! Не знаю я!
Внезапно он остановился, почувствовав, что позволил себе лишнее, откашлялся и продолжил:
– Прямых улик против меня нет. Пока. Ясно, что кто-то подкинул мне этот пузырек. Если учитывать, что наши не самые… светлые отношения с Артуром были известны всем… Что же, хитро, да. В любом случае, этот сыскной хорек предписал мне из города не уезжать и быть готовым по первому требованию явиться для дачи новых показаний. Каково?! Я что, должен сидеть день и ночь в ожидании, когда меня вызовет околоточный? Может, мне и сухари сушить уже прикажете? А? А когда же я буду работать? А?
Видя, что Дуров в состоянии истерики, я решил успокоить его единственным способом, который знал и которым пользовался сам. Я достал из буфета бутылку рябиновой настойки на хорошем шустовском коньяке и налил Владимиру Леонидовичу – да не в водочную рюмку, а в лафитную, побольше. Впрочем, и себя не обошел, плеснул во вторую – даром, что ли, Маша накануне их так хорошо протерла старыми газетами?
– Вот, выпейте, Владимир Леонидович. Успокаивает.
Он принял от меня настойку.
– Я уж со вчера успокаиваюсь. На время вроде как отпустит, а потом снова накатывает.
– А вы его встречным палом! – приободрил я Дурова, и мы одновременно выпили.
– Ну как, полегче? – спросил я дрессировщика. Но тот только устало махнул рукой.
– Это ведь еще не все плохие новости, Владимир Алексеевич.
– Что же еще случилось?
– Утром вывесили новую афишу. Рождественского представления. Саламонский приставил к ней дворника. Сами знаете зачем. Вот стоит наш дворник, добрая душа. Еще утро. Дети играют, кричат. И тут подлетает к нему стайка детишек. Начали снежками кидаться. И все по нашему дворнику норовят. Он их метлой, а они – ни в какую. Дразнят его. Снежками норовят в лицо запустить. Понятно, что он не выдержал, погнался за ними.
– Череп на афише? – спросил я, мрачнея.
– Да. Вернулся, а череп уже там. Сейчас афишу сняли, новую рисуют. Но до Рождества еще два дня. Думаю, этот череп опять появится.
На меня навалилась ужасная тяжесть. Значит, кошмар со смертью Гамбрини не закончился. И слово, данное мной Саламонскому, придется держать.
Дуров, слегка пошатываясь, встал и объявил, что пойдет домой, немного поспит. Я обещал держать его в курсе всего, что узнаю. Он кивнул, поморщился и стал надевать шубу. Не без моей помощи. Я даже выскочил за ним на улицу и свистнул «ваньку», чтобы знаменитый дрессировщик не замерз по дороге в каком-нибудь сугробе.
Но не успел я вернуться в дом, как заметил на углу паренька, дрожащего от холода. Он обернул шею старой занавеской. Красные руки прятал в карманы старой гимназической куртки со споротыми пуговицами, которые, вероятно, продал за копейку на барахолке.
– Ты чего тут стоишь? – строго спросил я.
– Дядя, ты не Гиляровский случайно?
– Ну!
– Тебе письмецо передать велели.
– Кто?
– Да конь в пальто. Говорить не велено.
– Ну, давай письмецо.
– А на чай?
Я достал двугривенный и кинул его парню. Тот схватил монету на лету и вытащил из кармана заклеенный измятый конверт.
– Чего же помял?
Но ответа я не услышал – паренек уже сбежал.
Я вернулся в дом и, пользуясь тем, что Маша с сестрой еще не вернулись, налил себе еще рябиновки и вскрыл конверт. В нем было не письмо, а записка, написанная женским почерком:
«Приходите в семь вечера к цирку. Мне очень нужна Ваша помощь. Лиза Макарова».
Снег падал почти отвесно – ветра не было. Он блестел в свете фонарей, стоявших вдоль бульвара. Новую афишу еще так и не вывесили, и у входа в цирк Саламонского было безлюдно. Я прождал почти четверть часа, как большая дверь приоткрылась, и Лиза выскользнула наружу.
Ознакомительная версия.