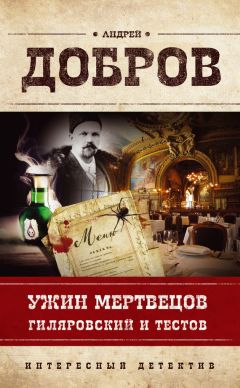Ознакомительная версия.
— Чепуха, — сказал Чепурнин. — Чепуха.
Он с наслаждением выпускал клубы сигарного дыма. Потом подозвал официанта и заказал себе арманьяк.
— Брезгуешь моей водкой? — спросил Патрикеев.
Чепурнин помахал сигарой. Горн потянулся к графину Патрикеева, но тот мягко перехватил его руку и ласково сказал:
— Павел Иванович, погоди. Поешь давай.
Он навалил на тарелку закусок и пододвинул Горну. Но аптекарь только вяло потыкал еду вилкой, а потом отложил ее в сторону.
— Я так посижу, — сказал он тихо.
Время шло, девицы исполнили еще несколько песен. Потом Веретенников объявил антракт, и девицы скрылись за дверью, около которой сидела старуха Кобылина.
Официанты снова забегали между столами, загружая их новыми бутылками и тарелками с едой. Все это время Саша Фомичев неподвижно сидел за роялем и будто дремал.
Наконец Веретенников снова вышел вперед и объявил продолжение концерта.
— Вот сейчас держись, — сказал Чепурнин, окруженный сигарным дымом. Он снова надел на нос свое пенсне и подался вперед.
Снова построились «кобылки». Но Фомичев все так же сидел за роялем, опустив руки. Вдруг в зале начали хлопать — от дальнего правого столика аплодисменты побежали, захватывая другие столики быстро, как внезапный разлив реки. Мои соседи напряглись и тоже захлопали, Патрикеев что-то крикнул — но его голос потонул в бешеных аплодисментах. Я вытянул шею, чтобы лучше видеть.
Она была совершенно не такой, как я себе представлял. Высокая, с почти черными волосами, сложенными в простую прическу, открывавшую длинную шею. Лицо узкое. На мой взгляд, нос был слегка длинноват, но зато — удивительно живые карие глаза и большой чувственный рот, уголки которого были изогнуты в легкой улыбке. Глафира сложила под пышной грудью длинные руки с узкими пальцами, слегка кашлянула и посмотрела в спину Фомичеву. Тот оглянулся и бросил на певицу долгий взгляд. Глафира кивнула. Зал моментально затих. Фомичев сыграл вступление. И Глаша запела: «Вернись, я все прощу: упреки, подозренья, мучительную боль невыплаканных слез…»
И только тогда я понял, чем же очаровывает эта женщина. Не взглядом карих глаз, не стройным станом, не легкой полуулыбкой. Голос ее был сильным и глубоким, но слышали мы голоса не менее сильные и глубокие. Но не было в ней ничего наигранного, ничего подчеркнутого, ничего артистического. Была в ее манере исполнения простота и правда любящей женщины. Руки ее, протянутые к зрителям, длинные руки девочки-переростка с хрупкими бледными пальцами, хотелось схватить, сжать, согреть. Она не молила и не играла твоими чувствами, она открывалась, как открывается женщина, решившая презреть законы гордости и молву, отдаваясь своему возлюбленному не только телом, но и душой, своим прошлым и своим будущим, всеми своими секретами, надеждами и страданиями. Вот как пела Глаша Козорезова.
Окончив этот романс, она снова дала знак Фомичеву. Он опять сыграл вступление, и певица начала романс Глинки: «Как сладко с тобою мне быть и молча душой погружаться в лазурные очи твои».
Зрители перестали стучать ножами и вилками по тарелкам. В зале стояла полная тишина. «Кобылки» время от времени подхватывали строчки, но, казалось, что их никто не слышит — всех захватил только один голос, все следили только за движением одних рук. Время от времени кто-то из зрителей хватался за рюмку и поспешно опрокидывал в себя водку.
Я тоже поддался этому волшебству, но вдруг как будто судорогой скрутило мне сердце — я вспомнил Большую Ордынку, доходный дом купца Чеснокова и женщину на кровати, залитую кровью. Вспомнил прикроватный полосатый коврик и осколок стекла на нем.
Когда песня кончилась и зал снова взорвался аплодисментами, я встал и, пробираясь между столиков, пошел к дверям, не обращая внимания на удивленные взгляды собравшихся. Только выйдя из зала, я смог прислониться к стенке и подождать, пока пройдет сердцебиение.
Что случилось? Отчего я вдруг так разволновался?
— Вам нехорошо? — спросил один из лакеев, сидевший на стуле около дверей.
— Нет, ничего, — ответил я, оттягивая галстук, чтобы получить больше воздуха. — Просто…
Я не придумал, чем закончить предложение, и быстро пошел в библиотеку — подальше, чтобы не слышать звуки рояля и голос, певший мне в спину: «Вам не понять моей печали!»
Да уж, где нам! — со злостью думал я. Да и вам не понять печали той несчастной, что из-за фантома, из-за страха измены и одиночества убила своего мужа, а потом и сама покончила с собой так страшно и так решительно, что несколько сильных мужчин не смогли удержать!
Я сердито плюхнулся на диван, вынул табакерку и вдохнул чуть не золотник табака.
Я заказал себе рюмку водки без закуски и чайник черного чаю. Но не успел официант принести заказ, как в библиотеку быстро вошел здоровяк Патрикеев, вертевший головой. Видимо, он искал меня, потому что сразу направился к моему дивану.
— Что это вы сбежали? — спросил он, усаживаясь рядом без приглашения.
— Так, мысли разные… — ответил я неопределенно.
Он кивнул понимающе.
— Да, сильная певица. А какая женщина! Я, по правде сказать, предпочитаю миниатюрных. Но тут… а вы заметили, что у нее нос длинноват?
Я кивнул.
— Вот! — поднял он палец. — Говорят, длинноносые отличаются страстью.
— Но то же самое говорят про женщин с маленькой грудью, — ответил я. — Однако это — не тот вариант.
— Не тот, — кивнул Патрикеев. — А все равно — прямо так и представляешь ее в своих объятиях — аж дрожь берет.
— Ну, — заметил я. — У меня до этого не дошло.
— Дойдет, — убежденно ответил Патрикеев, наблюдая, как официант ловко расстилает на журнальном столике передо мной белоснежную салфетку и ставит на нее рюмку водки, чашку и чайник. — И мне, любезный, водки графинчик и чайку покрепче. Ну и баранок насыпь. И сахару принеси побольше.
Он повернулся ко мне:
— Так о чем же вы хотели поговорить?
Я протянул Патрикееву свою визитку, на которую он быстро взглянул и сунул во внутренний карман.
— Про смерть Столярова.
— Так я уже все поведал следователю. Или он вам ничего не рассказал?
Патрикеев взглянул на меня пытливо.
— Полиция передо мной не отчитывается, — сказал я.
— А вы интересуетесь с какой целью?
— Пишу материал для «России».
— Ах да, — задумчиво сказал Патрикеев. — Ладно, спрашивайте, мне скрывать нечего.
— Очень хорошо, — сказал я. — Где вы были, когда Петр Ильич… почувствовал себя плохо?
— Рядом, — тут же ответил Патрикеев. — Вот как с вами.
— И не заметили ничего странного?
— Странного? — переспросил Патрикеев. — Как же! Конечно, заметил! Ведь когда твой знакомый умирает — это довольно странно, не правда ли?
— Я имею в виду до того, как он начал умирать?
Матвей Петрович хмыкнул:
— В том смысле — не видел ли я, как кто-то подсыпал ему яду в тарелку?
— Не в тарелку, — поправил я. — И не подсыпал. А капнул в рюмку с настойкой.
Патрикеев удивленно посмотрел на меня:
— Откуда вы это знаете?
— Знаю.
Он замолчал, будто вспоминая тот вечер.
— Если так… — задумчиво сказал он. — Нет, боюсь… А пойдемте на место, я вам покажу.
Он встал.
— Оставьте ваш заказ, никуда он не денется, мы потом вернемся.
— Конечно, — ответил я и встал. Мы прошли в столовый зал, где сидело всего несколько человек, не пошедших на концерт — скорее всего по причине абсолютной глухоты.
— Мы сидели вон там, — указал Патрикеев на стол в углу. — Пойдем.
У стола Матвей Петрович предложил мне сесть на стул, стоявший спинкой к стене.
— Здесь сидел Столяров. Я — рядом. Садитесь.
Мы сели. Патрикеев снова вытащил из кармана свой флакончик с мятной настойкой и брызнул в рот — казалось, он делал это автоматически, не задумываясь. Я подумал, что если хотел бы его отравить, то просто капнул бы яду ему во флакон, тем более что запах мяты отобьет любой другой вкус.
— Вот так. — Патрикеев хлопнул рукой по скатерти, чем привлек внимание официанта. Но помотав головой, он направил официанта обратно к двери в кухню.
— Обернитесь, — сказал спичечный фабрикант. — Что вы видите?
Я повернулся и увидел небольшой стол, уставленный разнокалиберными бутылками с разноцветным содержимым. На серебряном плоском подносе стояли хрустальные рюмки.
— Вот, — сказал Патрикеев, — сами видите.
— Но кто-то же принес рюмку! — заметил я.
Матвей Петрович пожал плечами, а потом запустил пятерню в свою русую шевелюру.
— Хоть убей, не помню! Мы тогда сильно подпили. Знаете, как бывает — пьешь, говоришь, а что вокруг — не замечаешь!
— Разве вы выпивали со Столяровым вдвоем? — спросил я.
— Почему вдвоем? Всей нашей компанией. Я, Чепурнин, Столяров и Горн. Ну, Горна можно не считать, он натрескался сразу. Проблемка у него, знаете, слаб он на винишко всякое.
Ознакомительная версия.