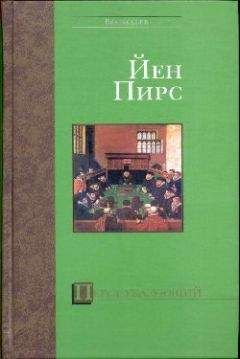Он же тем временем с бесконечной добротой осведомился о похоронах Анны Бланди, и я рассказал ему столько, сколько счел уместным. Он был как будто удовлетворен, что его деньги пошли на благое дело, и выразил сожаление, что Лоуэр повел себя столь дурно.
– Вы как будто оправились от своего горя по смерти девушки, – продолжил он, бросив на меня проницательный взгляд. – Я этому рад. Знаю, это нелегко. Тяжко потерять человека, имевшего в жизни значение столь большое, какое имела она в вашей, а мой брат – в моей.
Мы беседовали о дорогих нам людях, и отец Андреа говорил с такой разумностью и добротой, что, даже не зная всего о случившемся, утишил боль моей потери и помог мне примириться с одиночеством, которому, как я уже знал, суждено было стать моим уделом. Он был хороший человек и хороший священник, хотя и папист, и мне посчастливилось, что я повстречал его, ведь подобные люди – редкость. Трудно быть врачом тела, и хотя пытаются многие, лишь у единиц хватает умений или сострадания, чтобы добиться успеха. Сколь же труднее быть врачевателем душ! И все же отец Андреа был из таких. Когда он закончил и у меня не осталось больше вопросов, а у него – утешений, я сказал, что высоко ценю его сочувствие и беседу, и решил в вознаграждение дать ему кое-что взамен.
– Мне известно, зачем вы приезжали в Оксфорд, – произнес я и он резко обернулся, чтобы взглянуть мне прямо в лицо. – Вы состояли в переписке с сэром Джеймсом Престкоттом, после смерти которого ваши письма были утеряны. Они принесут немалый вред делу вашей веры в этой стране, и вы желали вернуть их, дабы их не предали огласке. Вот почему вы обыскали лачугу Бланди.
– Вам это известно? – Он прищурился. – Значит, вам известно, где они.
– Вам незачем за них страшиться. Даю вам слово, что никто и никогда их не увидит, и что они будут уничтожены.
Я видел его колебания, но он знал, что у него нет выбора, и что ему крайне посчастливилось.
Спустя некоторое время он кивнул.
– О большем я и не прошу.
Он спустился со мной вниз, с каждой ступенькой лестницы принимая знакомую мне личину, и если на верхней площадке он благословил меня, как священник, то на улице раскланялся, как джентльмен, а потом мы расстались, и каждый пошел своим путем.
– Полагаю, вы никогда не приедете в Рим, мистер Вуд, – с улыбкой сказал он. – Вы не созданы для путешествий. Жаль, потому что Вечный город показался бы вам самым необычным местом на земле и потому что там есть немало прекрасных историков и собирателей древностей, которые получат удовольствия от вашего общества столько же, сколько получили бы вы от бесед с ними. Но если тяга к перемене мест когда-нибудь овладеет вами, обязательно напишите мне, и я позабочусь о том, чтобы вам оказали самый радушный прием.
Я поблагодарил его, мы раскланялись в последний раз, и больше я никогда его не видел.
Но я о нем еще слышал. Не успел я пройти и нескольких ярдов, как снова повстречал моего друга Джона Обри, человека, чьи таланты на поприще слухов были столь велики, сколь незаслуженна моя слава, когда дело касается подобного вздора.
– Скажите, кто этот человек? – с любопытством спросил Обри, глядя мне через плечо на удаляющегося Кола. – Вы нас представите?
– Он врач, – ответил я. – Или, во всяком случае, джентльмен, интересующийся врачеванием. А почему вы спрашиваете? Вы говорите так, словно встречали его раньше.
– Верно, – согласился Обри, все еще заглядывая мне за плечо, хотя Кола уже скрылся из виду, свернув за угол. – Я видел его в Уайтхолле вчера вечером.
– Полагаю, любой может прогуливаться, не привлекая к себе особого интереса.
– Разгуливать по самому дворцу? Не так-то это и просто. И не каждого сэр Генри Беннет провожает в королевскую опочивальню.
– Что?
– Вы как будто чрезмерно этим удивлены? Могу я спросить почему?
– Особых причин у меня нет, – поспешил ответить я. – Я и не знал, что у него столь высокопоставленные знакомства в нашей стране. Боюсь, дома, в Оксфорде, мы смотрели на него свысока, как на обедневшего иностранца. А он так и не потрудился просветить нас. Наверное, мы показали себя удручающими, скучными людьми. Но скажите мне, когда именно вы его видели? И где это было?
– Дело было вечером, уже после сумерек, вероятно, около восьми часов. Я имел честь быть приглашенным на ужин – приватный и без всяких церемоний – с лордом Сэндвичем и его леди и кузеном, которому он покровительствует. Развязный, скажу я вам, молодой человек, который служит в морском ведомстве, вечно разглагольствует о предметах, в которых не смыслит и самой малости, но возмещает это большим воодушевлением и потому довольно приятен в своей простоте. Зовут его, насколько мне помнится…
– Я не хочу знать его имя, мистер Обри. Не хочу знать, что вы ели или как был накрыт стол лорда Сэндвича. Мне хотелось бы узнать о моем знакомом. О своей Фортуне расскажете мне после, если пожелаете.
– Ну так вот, я вышел из комнат лорда Сэндвича и пошел в мое скромное жилище, но, уже подходя к своей двери, вдруг вспомнил, что забыл ларец с рукописями – лорд-канцлер сказал, я могу просмотреть их для моих трудов. И так как я не совсем устал и выпил не более кварты вина, то решил почитать их перед сном. И потому я вернулся, но вместо того, чтобы идти в контору через весь Уайтхолл, я прошел через Двор Святого Стефана. Там есть узкий проход, который расходится в конце: одно ответвление ведет направо к конторам, где хранятся бумаги, а другое налево – к заднему входу в королевские покои. Я сегодня же покажу вам, если пожелаете.
Я кивнул, нетерпеливо ожидая продолжения.
– Я забрал требуемые бумаги и спрятал их под плащом, а потом вернулся назад. И тогда увидел, как по проходу навстречу мне идут сэр Генри Беннет – вам известно, что он теперь лорд Арлингтон? – и вот этот джентльмен, которого я никогда прежде не видел.
– Вы уверены, что это то самое лицо?
– Совершенно. И одет он был точно так же. Когда я поклонился им, уступая дорогу, мое внимание привлекла роскошная книга у него в руках. Венецианской работы, поистине старинная, в переплете телячьей кожи с золотым тиснением.
– Откуда вы знаете, что он направлялся к королю?
– Почти все остальные в отъезде Герцог Йоркский держит отдельный двор, к тому же он сейчас в Сент-Джеймсе у королевы-матери. Королева и ее фрейлины – в Виндзоре. Его величество пока здесь, но и он уедет через несколько дней. Так что если Беннет не вел этого человека поздно вечером на встречу с лакеем…
Вот и вся дразнящая малость, какую я узнал наверняка о последних днях, какие провел венецианец в Лондоне до своего отплытия на Континент. Не могу сказать точно, но, наверное, несколько дней спустя его заметил и велел арестовать во дворце доктор Уоллис. Все это время сэр Генри Беннет руководил его поисками и утаивал тот факт, что сам же в строжайшей тайне приводил его на встречу с королем.
По всей очевидности, тут замешаны были темные государственные дела, и я знаю, что невинному никогда не воздают по заслугам, если он вмешивается в них без должной на то причины. Чем меньше мне известно, тем в большей я безопасности, и хотя в этом случае мне трудно было обуздать любопытство, я тем же вечером покинул Лондон в университетской карете, и был рад такому решению.
Я говорю «узнал наверняка», так как с непреложной уверенностью знаю истину об этой встрече, насколько ее вообще возможно знать, не присутствуя на этой так и оставшейся тайной беседе. Из рукописей Кола, Престкотта и Уоллиса я почерпнул немалое удовольствие, ведь причины, побудившие Кола взяться за перо, ясны мне как на ладони. Цель его трудов – зародить семя сомнения, а его диспут с Лоуэром – пусть он и был для него важным – включен туда лишь для того, чтобы отвлечь внимание от истории, которую автор предпочел бы сохранить в тайне.
Рукопись писалась, дабы создать видимость непрерывного существования Марко да Кола, который вот уже много лет как мертв, и доказать, что это его, солдата и мирянина, видели в тот вечер в Уайтхолле. Ведь если в Англии был Марко да Кола, иезуита Андреа да Кола там быть не могло. А значит, то, что на мой взгляд, имело место в тот день в Уайтхолле, не могло бы случиться: такое возможно было бы только в том случае, если на встречу с королем приходил священник, а точнее, католический священник. Сейчас в стране, как никогда, сильна ненависть к папистам, и малейшего намека на папизм достаточно, чтобы подвергнуть опасности жизнь любого человека, вот поэтому личность собеседника короля крайне важна.
Доктор Уоллис был очень близок к тому, чтобы узреть истину, на деле он держал ее в руках, но отбросил как несущественную. Здесь я отсылаю к тому месту в его рукописи, где он цитирует слова скупщика картин в Венеции, сказавшего, что Марко да Кола «в то время не имел славы человека ученого или усердного к наукам», и тем не менее итальянец, которого знал я, был сведущ в медицине, обладал познаниями в трудах лучших умов и способностью интересно рассуждать о философах древних и новых времен. Прибавьте к этому рассказ торговца, которого допрашивал Уоллис во флитской тюрьме и который описывал Марко да Кола как «сухопарого и изможденного и мрачного умонастроения» – прямая противоположность коренастому и веселому джентльмену, прибывшему в Оксфорд. Прибавьте к этому отказ Кола обсуждать военную службу на Крите в доме сэра Уильяма Комптона. А потом скажите мне, какой солдат не стал бы до бесконечности разглагольствовать о своих подвигах? Вспомните о предметах, какие нашел я в его сундуке, и вдумайтесь в их смысл. Вспомните еще и его ужас, когда он воочию столкнулся со своим вожделением к Саре Бланди. Скольких вы знали солдат, которые были бы столь же совестливы? Действительно, этот человек был одной из тех загадок, которые столь трудны для понимания, но столь просты, когда правда наконец выходит на свет.