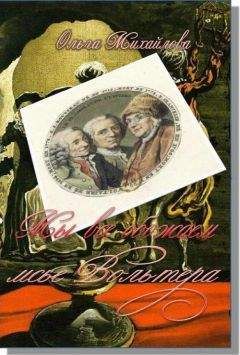Так мадам де Граммон неожиданно для самой себя постигла принцип контраста святого Джованни Бонавентуры, едва ли зная что-либо не только об учении, но и существовании сего великого мужа.
Что до Камиля де Сериза, то в обществе он чаще всего делал вид, что почти не знает де Сен-Северена. На вопросы знакомых, как он находит священника, граф неизменно с некоторой долей напускного легкомыслия отвечал, что с аббатом можно иногда коротко поговорить о вечном. Правда, лицо графа при этом несколько перекашивало.
На самом же деле Камиля де Сериза с Жоэлем де Сен-Севереном связывали отношения давние и напряженные. Жизнь постоянно сводила их, и первое столкновение произошло ещё в иезуитском колледже Святого Людовика. Двое одарённых юношей всегда были соперниками, причём не только в ратных поединках и интеллектуальных занятиях. Обоих угораздило влюбиться — со всем пылом юности — в одну девицу. Красавица Мари не досталась никому, но успела подарить одному — свою благосклонность, а другого — наделить мужественностью. Обстоятельства случившегося были столь скорбны, что и сегодня, десятилетие спустя, при воспоминании об этом лицо Камиля де Сериза кривилось нервной судорогой, а Жоэль де Сен-Северен бледнел. Безвременная смерть Мари страшно разобщила их, ни один, как ни старался, не мог избыть в себе память о былом, но если Сериз искал забвения в разврате, то Сен-Северен — в монашестве.
Но об этом уместнее будет рассказать позже.
Тем временем гостиная наполнялась. Пожаловал маркиз Анатоль дю Мэн, сероглазый шатен с бесцветным лицом и пепельными волосами, настолько незаметный и сливавшийся с интерьером, что гости маркизы всегда опасались сесть в кресло, уже занятое его сиятельством. Маркиз считался честнейшим человеком, ибо никогда не говорил того, чего не думал. Беда только, что думал он вообще нечасто и по большей части о самых банальных вещах — например, о необходимости прихватить с собой зонт на случай дождя.
Почти одновременно с ним появился виконт Эдмон де Шатонэ, приятель маркиза, смуглый сорокалетний брюнет, на лице которого глаз вычленял полные, четко очерченные губы и густые брови, а что до глаз, носа и лба мсье де Шатонэ, то те, кто прилагали усилия разглядеть их на лице виконта, в конце концов добивались искомого. Эдмон, в отличие от друга, всегда говорил то, чего не думал, но не потому, что был завзятым вралём, а по той простой причине, что не думал вообще никогда. Его жизнь сводилась к череде ощущений, кои он все время стремился облечь в слова, и поток его речи был неиссякаем, ибо жизнь виконта была богата чувствами.
Оба они были для маркизы всего лишь восторженно рукоплещущей публикой.
Тибальдо ди Гримальди, богатейший банкир, коллекционер редких книг и антиквариата, пятидесятилетний итальянец с оливковой кожей и несколько упадочными чертами благообразного породистого лица, с тусклыми набрякшими глазами, чья мрачность, однако, всегда погасала в свете его приятной улыбки, был обожаем маркизой за выдающееся понимание искусства. Банкир также был известен своими мистическими увлечениями и склонностью к вещам, находящимся «по ту сторону опыта», о коих любил потолковать со знатоками. Впрочем, знатоком ди Гримальди признавал далеко не каждого и потому высказывался весьма редко. Аббату де Сен-Северену, тоже итальянцу, его соплеменник напоминал римлянина нероновых времен, и отец Жоэль, глядя на него, часто думал, что ему пошла бы алая тога и лавровый венок вокруг все более лысеющей головы.
— Что я вижу, мадам! — восхищенно подняв брови, проронил банкир, — вы приобрели новую мебель? У Дюфренэ, как я понимаю? Просто очаровательно.
Маркиза польщено улыбнулась: новая мебель была её гордостью. Аббат Жоэль полагал, что интеллектуальный уровень салона и его внешний блеск пребывают по отношению друг к другу скорее в обратной, чем в прямой зависимости, но тоже проговорил следом за банкиром несколько дежурных восторженных слов.
Тут в гостиной появился известный меломан граф Шарль де Руайан. Этого сорокалетнего брюнета за глаза часто называли выродком, ибо граф être de haute noblesse, сиречь, происходил из столь древнего рода, что черты его лица носили ярко выраженные следы вырождения. Уши графа Шарля были малы и заострены на концах, нос короток и излишне тонок, карие глаза под тяжелой пленкой век напоминали жабьи. К тому же голубая кровь предков непотребно исказила интимные потребности его сиятельства, окрасив его постельные прихоти в столь же необычный цвет. Впрочем, Шарло или Лоло, как звали графа друзья, был человеком обаятельнейшим, а уж лютнистом и скрипачом — так и просто превосходным, и если амурные причуды графа иногда вызывали разговоры, то его музыкальные дарования заставляли всех умолкнуть. Маркиза его просто обожала и даже считала красавцем. Не все её гости были с этим согласны, но французы не спорят о вкусах — особенно с женщинами.
Его сиятельство был знаком с Франсуа Купереном, дружен с первым парижским виолистом Отманом, восхищался блистательным виртуозом и petit maitre, покойным Мареном Маре, солистом оркестра «Лютни Короля», «ангелом музыки, игравшим, как сам сатана», а что до Жана-Мари Леклера, то его композиции для лютни с basso continuo, по мнению графа, были вершиной изящества, знаменитая же скрипичная соната «Le tombeau» исполнялась им даже дома по утрам — для собственного удовольствия.
Камиль де Сериз поклонился обоим вошедшим, с ним поздоровались церемонно и чопорно, Сен-Северен тоже привстал, приветствуя гостей. Лицо аббата выражало умеренную радость встречи, но в глаза Шарло он старался не смотреть. При этом, снова садясь, аббат бросил короткий взгляд на лицо Сериза и с удивлением заметил, что глаза графа выглядят странно: окруженные болезненной зеленовато-бурой тенью, они, хоть на них не падал свет, тускло светились, подобно болотным гнилушкам. Отец Жоэль подумал, что устал сегодня и ему невесть что мерещится, но, бросив на его сиятельство ещё один взгляд, увидел всё то же пугающее свечение и поспешил отвернуться.
Никого не замечая, погруженный в свои мысли, появился мсье Фабрис де Ренар с париком на лысине и очками на носу. Книгочей и книгоман, он читал, как дышал, и однажды, оказавшись на бульваре без книги, принялся читать объявления на столбах и названия магазинов. Столь большая одержимость принесла свои плоды: мсье Фабрис мог дать справку по любой отрасли современных знаний, правда, если сведения из двух разных источников противоречили друг другу, де Ренар тут же начинал искать третий источник, который объяснил бы возникшее противоречие. Библиофил увлекался демонологией и богословием — и аббат Жоэль, вовлекаемый порой мсье де Ренаром в нелепые споры, иногда думал про себя, что бредовые теологические суждения мсье Фабриса стоят деистических пошлостей Вольтера. Сен-Северен считал книголюба глупцом, la tête de linotte, но маркиза де Граммон, да и многие другие придерживались о нём весьма лестного мнения.
Минуту спустя с Фабрисом де Ренаром раскланялся, на ходу снимая плащ и бросая его лакею, герцог Габриэль де Конти, флегматичный сорокапятилетний толстяк, на полном красноватом лице которого выделялись большой нос, бурые застывшие глаза с густыми бровями, тяжелые, как гроздья винограда, губы, да массивный, раздвоенный на конце подбородок. Он был счастлив в деньгах — его родственники мерли, как мухи, и сегодня герцог считался одним из богатейших людей королевства, ему принадлежали замки Конти, Перлёз, Шантовиль. Интересы герцога были обширны, и королевой его склонностей, бесспорно, была гастрономия, но, как поговаривали, его светлость увлекался также алхимией, медициной, естествознанием, наукой о звездах и всякой другой чертовщиной.
А вот пришедший с ним виконт Ремигий де Шатегонтье, бледный желчный человек неопределенных лет с глазами цвета листьев медного бука на худом лице со впалыми щеками и длинным корявым носом, имел даже степень доктора медицины. Правда, от необходимости практиковать его избавила внезапная смерть отца и старшего брата. Унаследовав титул и семейную вотчину, Реми кочевал из одной светской гостиной в другую, пока не остановился на уютном салоне мадам де Граммон, где обрёл понимающих друзей и единомышленников, особенно в лице его светлости Габриэля де Конти. Виконт не пользовался успехом у женщин, находивших его безобразным, но его весьма высоко ценили в салоне за всегдашнюю вежливость и готовность дать бесплатно дельный медицинский совет.
Было замечено, что те, кто методично следовали его наставлениям — поправлялись.
Последними в гостиной появились Робер де Шерубен, миловидный молодой человек, которого считали самым завидным женихом сезона, и удручающе похожий на женщину племянник графа Ксавье де Прессиньи барон Бриан д'Эпине де Шомон, как говорил граф Лоло, «нежный юноша», хотя чаще по его адресу ронялись куда более резкие эпитеты, наименее оскорбительным из которых было un jeune couillon de dépravé, что приличнее было перевести, как «юный истаскавшийся подонок». Но мало ли что наговорят злые языки-то! В гостиной маркизы де Граммон Брибри, как называли де Шомона, считался поэтом. Справедливости ради стоит упомянуть, что его милость был талантлив, и порой, в самом деле, творил нечто утончённое и прелестное. Причём, как говаривал Лоло, особенно блистал в ночь полнолуния. «И с коньячного похмелья», насмешливо добавлял шепотом Реми де Шатегонтье.