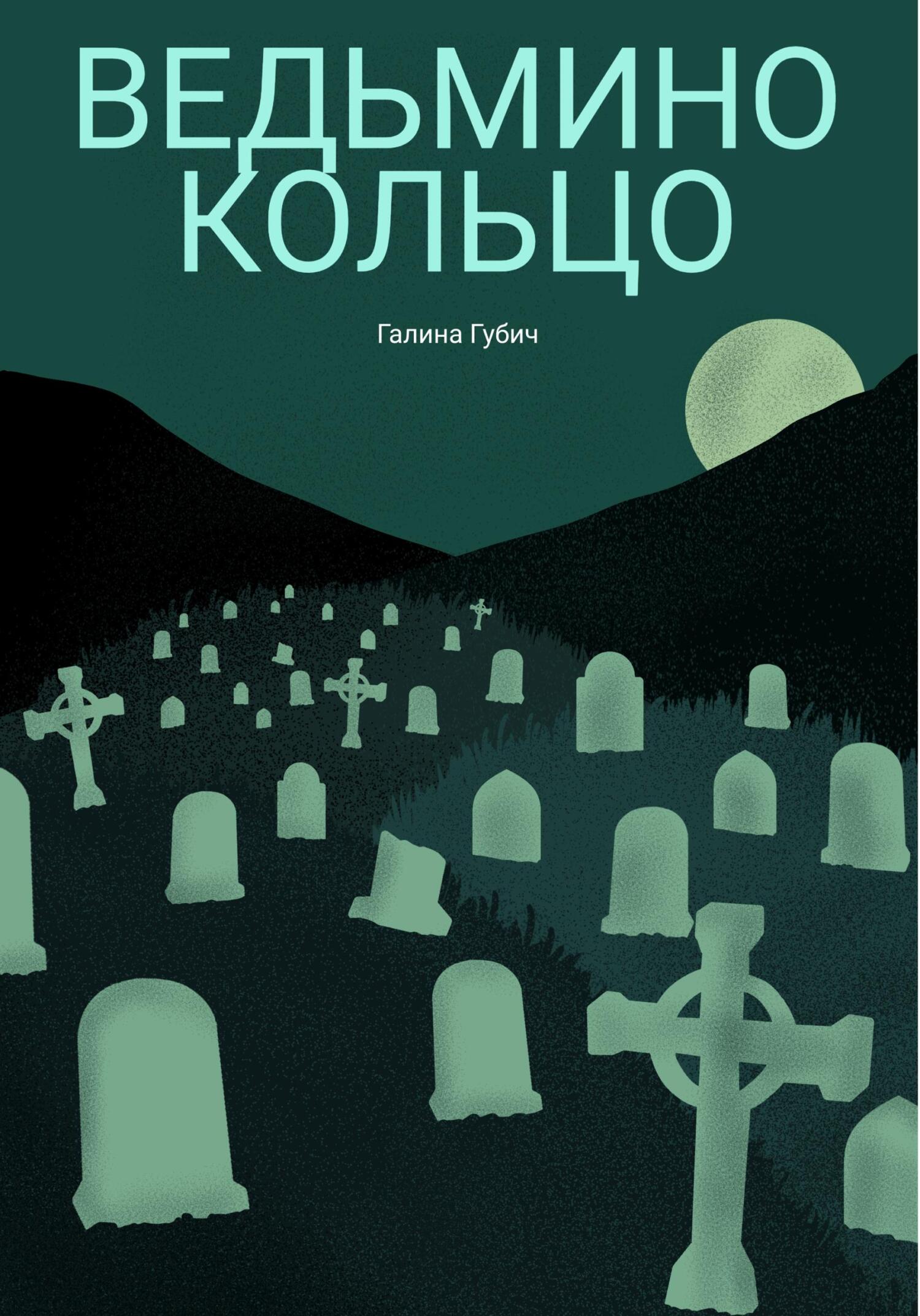в нее свою духовность вливает, помогает истины постичь.
Эх-эх-эх! Про то, что дура, спору нет, я и не обучалась нигде, из букв, окромя ятей с ерами, ни одной не разбираю, да и те Советская власть поотменяла за ненадобностью. Потому прочесть, что в эпистолах писано, я не умею. Грешно отцу Статору на слово не верить, тем боле никогда я от него худа не видела, одно добро. Но точит меня червец, покоя не дает. Что-то тут не так!
Аль не забивать себе умишко, исполнять наказы безропотно и горя не ведать? Верней всего к тому бы все и пришло, кабы не приключилось со мной оказии, какую я себе и вообразить не смела. Было то ввечеру, даже, правильнее сказать, за полночь. Сбегала я в село, с Лимпиадой перемолвилась, передала ей от отца Статора нарекание за то, что она прошлой ночью на духовное бдение не явилась. Лимпиада оправдываться кинулась: грит, пришла бы, да заезжий, что у нее на чердаке поселился, больно докучлив стал, проходу не дает, все уши елейными словечками прожужжал. Одначе ж кажется ей, что не любовь им движет. Чекист он, из Москвы с секретным предписанием послан. И есть у Лимпиады опаска, что паства наша может ему под горячую руку попасть. Нам и так-то притеснения чинят, милиция раз за разом прикатывает, все избы перерывает сверху донизу, ищет, чем бы нас обличить. Хорошо, что отец Статор прозорливостью наделен, загодя весь хутор упреждает, и мы добычу, у кого еще не сдана, и дары по подполам прячем. Подполы укромные, свистунам их ни в жисть не найти. Но тот, который из Москвы, сказывают, парень дошлый…
Видела я его издалека, мне Лимпиада показала. Наружностью красавец, у меня в грудях грешным делом засвербело. Статен, высок, волосом черен. Ужель в голове у него, под этими вихрами, мысли вероломные колобродят? Не хотелось мне так думать, но отец Статор учил всегда осторожной быть.
И вот иду я ночью до хутора, записку от Лимпиады несу. Дошла до дома отца Статора, ногтем по окошку повозила, получился писк потоньше мышиного. Отец Статор из сеней вышел, в избу меня не пустил, записочку из руки выхватил, фонариком себе подсветил, прочел. Гляжу, невесело ему – значит, вести безрадостные. Спросил меня, не передала ли чего Лимпиада на словах. Я ему про заезжего рассказала, он покивал: ведаю, Лимпиада обстоятельно пишет. И про чекиста, и про то, что возле станции паровоз с рельсов свергся, и теперь на нас заново облаву хотят устроить.
– Тернистые времена настали, Плашка, – глаголет мне отец Статор, – горсткой пшена сыта замарашка. Вражья купа наш стан сечет, но нам заступник ведет учет. Горестей – пропасть, но верить надо: на всяку горесть придет отрада.
Он завсегда стихами изъясняется, из ничего их творит.
И вдруг – зырк! – мне за плечо.
– Когда ты ступала сейчас по проселку, не крался ли кто за тобой втихомолку?
– Не приметила, – молвлю. – Ночь темна, а зрак у меня не совиный. Еле-еле с тропки не сбилась.
Отпустил он меня домой:
– Иди, отдохни, дожидайся призыва. Погаснут огни, месяц выглянет сивый. Бодрись! Ныне час промелькнет, как мгновенье. Я вскорости вас соберу на моленье.
Поэт! Мне в детстве бабка-грамотейка, что когда-то в услуженье у городской барыни была, Пушкина наизусть читала. Но куда ему до отца Статора!
Дошагала я до своей избенки, что на краю хутора прилепилась. Вошла во двор, а навстречу из-за яблони, какая подле баньки растет, выходит тот самый красавчик с черным волосом и пистолет на меня наставляет. И речет эдак покойно, без крику, но каждое слово – как гвоздь вколоченный:
– Идем в избу. Визг поднимешь – застрелю.
Обмерла я, дурно мне сделалось, язык к гортани присох. А красавчик оружие убрал, и голос у него совсем помягчел:
– Вижу, что не станешь ты глупостей творить. Я тоже тебе ничего плохого не сделаю. Пошли, р-расскажешь мне, кто вы такие и что тут у вас да как.
Поди разбери, почему я тревогу не подняла. Понимала же, что не будет он в меня пулять, не таков злодей. Как зачарованная, в избу его пропустила, дверь заперла, осталась с ним с глазу на глаз. Срам! А может, и впрямь он меня зачаровал? Отец Статор баял, что есть такое колдовство – гипноз называется. Это когда один человек на другого посмотрит и воле своей подчинит. Вот и красавчик этот с единой поглядки всю мою душу под себя подмял, как кочет курицу. Какое тут противление, скажите на милость! Эх-эх-эх!
В горенке у меня темно, я к спичкам потянулась, но он велел огня не зажигать. Осмотрелся так, будто видел все, как на дневном свету. Сел на лавку, ладонью подле себя хлопнул.
– Присаживайся. Покалякаем маленько, и я пойду. Звать меня Вадимом, служу я в политическом управлении, могу документ показать, но ты ведь и так мне поверишь?
Еще бы не поверить! Особливо после Лимпиадиных рассказов…
Присела я возле него. Сама себе дивлюсь: испуга нет, дрожь унялась, только в середке тенькает что-то, сладостно так, как струна балалаечная. И думаю: Вадим – это же Вадя, Вадюша. Чудно́е имечко – и сила в нем есть, и ласковость. Хотя не об том бы мне сейчас… Политическое управление – это вам не милиция. Обвинят в контрреволюции – и поминай как звали. Тюрьмой не отделаешься, мигом к стенке поставят.
Красавчик мысли мои перехватил, хохотнул тихонечко:
– Да ты не бойся! Пистолет – это я так, для порядка. Чтобы власть показать. Я у вас впервой, вызнал только, что на хуторе сектанты живут. И ты, видать, тоже из них. Как кличут-то тебя?
– Плашка.
– Что за имя такое? Никогда не слыхал…
Я разобъяснила, что в прежней жизни меня Марфой звали, но всех, кто к нам в общину попадает, отец Статор на новый лад перекрещивает – с Великим Механизмусом сродниться пособляет. Плашка – это кругляшок такой, им резьбу нарезают. У нас на хуторе мирские имена не приняты, все по каким-то техническим приспособам прозваны: есть и Поршень, и Втулка, и Коленвал, и Маховик… Ну и отец Статор раньше тоже по-другому назывался, а когда к нашей вере пришел, выбрал себе имя звучное, крепкое, под стать сану.