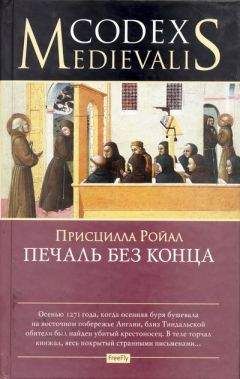Он поднялся навстречу и протянул руки ладонями кверху в немой мольбе, но тут прилежная ученица Дьявола, называющая себя настоятельницей, появилась рядом, и дух его жены взвился над ними и исчез, растворился в воздухе, сопровождая свое исчезновение громкими стенаниями. Он зажал уши руками, но все равно продолжал слышать эти звуки, чувствовал, что сходит от них с ума.
Он проклинал тех, кто и теперь заставляет его жену так страдать. И больше всех — эту мнимую служанку Господа, которая притворно молится там над трупом. Она догадывается, что главное и единственное его желание — свидеться со своей женой, и делает все, чтобы оно не осуществилось. Даже сам Сатана милостивее, чем эта женщина, — он позволит ему встретиться с его любимой в его царстве — в аду…
Проклятье!
Он шепотом произнес это слово, но оно громом отдалось у него в ушах… Он должен пресечь раз и навсегда ее злобные выпады, хитроумные уловки!..
Вот тогда он и поднялся с койки, поняв, что должен расправиться с этим страшным существом. Сейчас или никогда!
Но у двери в часовню он увидел ту высокую монахиню. Как же ему пройти мимо нее незамеченным? Невозможно. И, значит, нужно убить ее. Убить ни в чем не повинную?.. Нет!
Он вернулся, упал на колени, закрыл глаза. И снова с закрытыми глазами увидел призрак жены в лучах света. Он плыл над ним.
Рыдания вырвались из его горла.
Прости меня, бормотал он, протягивая руки. Клянусь тем вечным огнем, что пожирает тебя сейчас, я хотел лучшего… Хотел, чтобы ты была в большей безопасности, когда отправлял тебя к твоим сородичам, к женщинам-сарацинкам. Как я мог знать, что произойдет то жуткое, которое произошло? Как?..
Так говорил он, перемежая слова рыданьями.
И чья-то рука легла ему на плечо.
Если бы Томас перестал замечать голые стены вокруг, тесноту помещения, отсутствие окон, он бы мог вполне забыть, что находится в заточении. Потому что на грубых досках стола перед ним стоял большой глиняный кувшин с добрым элем, а рядом — дымящаяся миска с духовитой жирной похлебкой прямо из кухни сестры Матильды. Тут же лежала коврига свежего хлеба и кусок аппетитного янтарного сыра. Настоятельница проявляет редкую заботу о своем собственном заключенном, спасибо ей…
Все это он в конце концов заметил и оценил, как и то, что ножа ему не дали. И несмотря на изобильную пищу, есть сразу расхотелось.
Помощник Ральфа Кутберт смущенно кашлянул:
— Я нарежу вам сыр, если хотите, брат.
— Ничего, пусть так, — ответил Томас с бледной улыбкой. — Я буду грызть его, как здешняя крыса. Но все равно спасибо за желание помочь.
— Полагаю, это не слишком большое утешение, брат, — продолжал Кутберт, — но не могу не сказать: многие в деревне выражают вам свое сочувствие. Особенно те, кому вы в свое время помогли вместе с сестрой Анной. И без нее.
— Значит, в деревне уже все известно?
— Новости шагают споро! Братья и сестры, извините меня, тоже языками работать умеют.
Томас пожал плечами:
— Все мы люди.
Кутберт оглянулся, словно кто-то мог их здесь подслушать, и, понизив голос, произнес:
— Некоторые говорят, что наш коронер перестарался. Запер вас в темницу, чтобы ублаготворить начальника. А еще говорят, что на самом деле в этом замешан кто-то шибко знатный и нашего коронера подкупили.
— А что ты думаешь, Кутберт?
Тот в сердцах сплюнул:
— Наш Ральф скорей даст яйца себе отрезать, чем купится на неправедные денежки. — Он замолчал с таким видом, словно сам не понял, как у него могло вырваться такое, и потом сказал: — Прости, брат, мой грубый язык.
Томас не удержался от смеха.
— Из всего этого, — проговорил он, — я могу сделать вывод, что мужское достоинство нашего коронера вне опасности.
Кутберт радостно затряс головой.
Томас заговорил снова:
— Поскольку в деревне ждут новых вестей, прошу тебя, Кутберт, упомянуть между делом, что я нахожусь в хорошем настроении и жду не дождусь минуты, когда наш коронер схватит убийцу солдата. А мое пребывание в узилище, можете добавить, рассматриваю как необходимый и ловкий его ход и жду скорого освобождения.
— Едва ли они поверят…
— А ты растолкуй им, что людей порою сажают в тюрьму, чтобы оградить от грозящей опасности. Ральф считает, я что-то знаю и это знание может принести мне беду. Ведь я находился на той самой дороге, где произошло убийство, и в то самое время… Вот он и решил… И еще, Кутберт, если будет желание, скажи всем, кто интересуется, что я верил и верю в коронера Ральфа как в честного и благородного человека, кто никогда не позволит закону покарать невиновного.
— Все сделаю как говорите, брат. Ваши слова помогут оберечь нашего Ральфа от пустых обвинений чересчур языкатых людей. Везде ведь есть такие — разве им на рты замок навесишь? Я пойду, пожалуй…
Кутберт поднялся и, почтительно поклонившись, вышел.
Однако, несмотря на явное свое сочувствие к Томасу, помощник коронера, как заметил арестант, плотно закрыл за собой дверь и тщательно проверил замок.
* * *
Томас молча сидел, глядя на разложенные перед ним яства. Оживление сменилось прежним чувством беспокойства и тоски. Тоски и беспокойства. Аппетита не было в помине. На несколько минут он сумел вынырнуть из бездны уныния — и вот снова погрузился в нее целиком. Спасибо сестре Матильде, но ее кулинарное искусство, увы, не спасло.
Внезапная ярость обуяла его, и он с такой силой стукнул кулаком по столу, что брызги похлебки разлетелись во все стороны.
— Я проклят! — простонал он. — Проклят! Но за что?
Раздался стук в дверь, и приглушенный и беспокойный голос Кутберта напомнил, что его охраняют, а также не оставляют своими заботами. Что почти одно и то же. Он прокричал в ответ, что случайно прикусил язык, а вообще все в порядке.
Как бы он хотел, чтобы его невинная ложь о том, что все в порядке, оказалась правдой! Но он должен что-то предпринять! Он не может оставаться взаперти, обуреваемый мыслями о прошлом, — так он вскоре сойдет с ума!
Возможно, лучше было бы рассказать обо всем — Ральфу, или Анне, или обоим. Это могло бы принести облегчение. Но что именно им сказать? И как?..
Кое-что он уже начал было говорить Кутберту, однако вовремя остановился. Ведь стоит только начать — одно потянет за собой другое, а там и… выворачивайся наизнанку… Но если эта изнанка так ужасна, так омерзительна, как у него?..
Ральф тоже хорош… Талдычит о дружбе, а сам… Запер его в этой проклятой каморке и думает утешить супами и сырами из рук Матильды. И разве можно подозревать в самом страшном человека, которого считаешь своим другом? Тогда вычеркни его из числа друзей!
Но тут же это суждение сменилось на прямо противоположное.
Будь я честным человеком, начал он укорять себя, я бы испытывал не обиду, а уважение к тому, кто истину и закон ставит выше дружеских чувств. А сам я мог бы так поступить? Наверное, нет, потому что слаб. Слаб и многогрешен…
А с другой стороны, продолжал рассуждать Томас, безразлично глядя, как остывает похлебка, с другой стороны — что подозрительного в том, что я так торопился домой, в монастырь, что не поел как следует с утра, или в том, что мне сделалось плохо от лицезрения этого ужасного мертвеца. Если бы они знали еще, кого он мне напомнил! Что от усталости и голода я принял его за моего проклятого насильника…
Итак, чему способствует то, что я снова сижу сейчас под арестом? Лишь тому, что снова и снова вспоминается то, что произошло со мной в Лондоне несколько лет назад, а также то, что случилось в прошлом году, когда, рискуя собственной жизнью, я спас чужую… О последнем событии я бы мог спокойно рассказать Ральфу, но разве это помогло бы ему раскрыть убийство солдата?..
Ну, и какой же вывод, Томас, ты сделаешь из всего этого?.. А такой, что Ральф прав, и мое дурацкое поведение может и должно вызывать подозрение. А если так, то меня нужно держать под замком до тех пор, пока не расскажу того, что снимет с меня подозрение, и выходит, что для меня сейчас все сводится к одному: что рассказать?
Разумеется, я не могу признаться Ральфу в том, что долго находился в заключении. А если признаюсь все-таки, то ни за что на свете не решусь сказать за что! За содомию!.. Но Ральф, естественно, как законник и как друг, непременно захочет узнать причину моего ареста. Ну и, предположим, я придумаю что-то. Но тогда у него возникнет другой вопрос: почему? Почему в стране, где за мелкие проступки сроки заключения невелики, меня так долго держали в тюрьме? Не значит ли это, что я совершил что-то весьма серьезное? Что же именно? И вполне возможно, он подумает о предательстве.
А тогда я буду вынужден раскрыть истинную причину и потеряю друга, но этим дело не ограничится. Мой бывший друг задастся вопросом, каким образом человек, осужденный за содомию, по выходе из тюрьмы оказывается принят в монашеский орден, что запрещено любыми канонами. Значит, и здесь что-то нечисто…