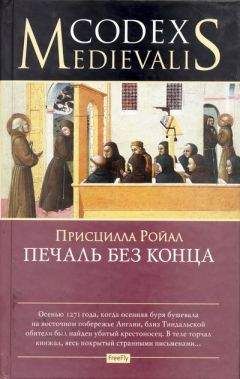Лицо Уолтера покрылось красными пятнами.
— Вы не знаете, коронер, кто мой хозяин!
— Думаю, рыцарь, принимавший участие в одном из крестовых походов. Хотя вы и не носите нашивок. Однако, судя по загару на лицах, вы пребывали в стране, где намного жарче, нежели в Англии.
Ральф заметил — или ему показалось? — испуг на лице собеседника, и, кроме того, тот стал заметно сговорчивей и двинулся вслед за ним в сторону часовни. Молодой последовал за ними.
— Он близок к принцу Эдуарду, — шепотом произнес Уолтер, кивая на Мориса.
— А на Святой земле вы не были?
— Для поправки здоровья моего хозяина мы путешествовали по континенту. Как вы знаете, там немало святых мест.
— Насколько я понимаю, Уолтер, вы хотите сказать, что ваш хозяин — свой человек при дворе, где у него много друзей, и среди них мог быть даже принц Эдуард, если бы он не находился, и уже довольно давно, на Святой земле?
— Вы довольно проницательны, коронер.
— Настолько, Уолтер Как-вас-там-дальше, что могу вам прямо сказать: вы не слишком хорошо играете роль слуги. Потому что хороший слуга, помимо всего прочего, должен помочь своему хозяину выполнить предписания человека, состоящего на службе у короля. Тем более если этот человек даже не интересуется, зачем вы ведете игру в слугу и хозяина, а требует лишь одного: чтобы вы оба взглянули на труп убитого человека.
Уолтер беспомощно взглянул на юношу, лицо его смягчилось, в единственном глазу заблестела слеза.
— Прошу прощения, коронер, за упрямство, — сказал он. — Но единственная моя забота сейчас — оградить несчастного юношу от лишних страданий.
— Зрелище смерти в наше время не самое редкое, к сожалению для всех нас. Идемте.
Ральф показал в сторону открытой двери часовни.
— Едва появившись из материнского чрева, — сказал тот, кто называл себя слугой, — мы уже носим на себе печать смерти. Но на некоторых она бывает видна особенно отчетливо.
С этими словами он взял юношу за локоть и подвел к двери.
— Быть может, вы хотите первым увидеть мертвого, Уолтер?
Тот покачал головой:
— Мы сейчас вместе идем по жизни. Морис и я.
— Тогда вперед.
Они подошли к козлам, на которых лежал труп. Ральф откинул покрывало.
Морис пронзительно закричал.
— Миледи, я благодарен, что вы пришли так быстро.
Даже в полутьме коридора было видно, как бледен молодой стражник, сменивший Кутберта у дверей узилища, куда заключили Томаса.
— Нашему брату очень плохо? — спросила Элинор, убирая в рукава руки, чтобы не было видно, как они дрожат.
— Не знаю, миледи. Он совсем тихий какой-то. И так просит… так хочет поговорить с вами. Я думал позвать сначала коронера, но не нашел его, и тогда…
— Вы правильно поступили. А каким вам показался брат Томас, когда просил вас позвать меня?
— Каким? Я уже сказал, миледи, — такой тихий, словно уже не из этого мира… Я даже испугался… Такое у него лицо…
* * *
Со скрипом открылась дверь в камеру, где было еще темней, чем в коридоре. Томас повернул голову.
Благодарение Господу — она пришла! В слабом свете коптилки он различал ее черты. Их выражение казалось мягче, чем обычно; голос, которым она произнесла слова приветствия, тоже звучал мягко. Да, он правильно сделал, что решил довериться ей. Только ей!
— Вы очень добры, миледи, что откликнулись на мою просьбу и пришли сюда. — У него перехватило горло. — Нет, — продолжал он окрепшим голосом, — время слез прошло. Их больше нет у меня. Я твердо решил сказать вам правду… Ту правду, которую ждал от меня коронер и, не дождавшись которой, посадил меня сюда.
— Быть может, вам нужен исповедник? — спросила она.
— Я хочу исповедаться вам, моей настоятельнице. Вы имеете право и должны знать обо мне все.
— Но исповедь и предполагает это, брат.
— Миледи, прошу вас не проявлять беспокойства по этому поводу. Это будет не исповедь, а скорее объяснение. Мое искреннее, из глубины души толкование того, что со мной происходило и происходит. И первое, что я хочу сказать: я не убивал человека, который лежит сейчас в часовне.
Он замолчал. Пауза продолжалась так долго, что Элинор решилась прервать ее вопросом:
— Вы знаете его?
Он выдохнул:
— Я никогда не видел этого человека.
— Однако вы повели себя так, словно знали его.
От ее тихого ласкового голоса ему хотелось прижаться к ней, как ребенку к матери, и чтоб она его укачивала и утешала. Ведь он так одинок, в сущности. Всегда был одинок.
Один раз он уже рассказывал на исповеди о том, что перенес, когда находился в заключении. Он исповедовался перед человеком в черной одежде и после этого был принят в монашеский орден, что принесло ему временное облегчение, но не вернуло умиротворения и тепла в душу: холод и боль остались и раздирали ее, как стервятники свою добычу.
А сейчас он хотел, был готов рассказать все — и то, о чем не говорил раньше, — для этого он и осмелился призвать свою настоятельницу, послать за ней стражника. И он поднял голову и собрался говорить… Но понял вдруг, что не может: что-то ему мешало, ставило препоны… Не в ней было дело, а в нем самом. Рассудочность побеждала душевный порыв. Нет, не смеет он сказать больше, чем… чем позволяет разум.
Он тихо произнес:
— Тот человек напомнил мне другого, которого я сам хотел убить. — И после паузы добавил: — И даже сейчас готов сделать это.
— Почему? — тоже негромко и спокойно спросила она.
— Он был моим тюремщиком в Лондоне.
Она больше ничего не спросила, и он продолжил:
— Этот человек был лют. Он любил жестокость. Она грела и вдохновляла его. И я был не единственный, кто страдал от его безжалостности… — По телу Томаса пробежала дрожь, он с трудом унял ее и выбранил себя: ведь он только недавно поклялся, что не будет поддаваться слабости. — Я знаю, — заговорил он снова, — что не должен позволять себе грех непрощения, но есть, наверное, такие людские пороки, обелить которые не в состоянии и сам Господь. Если речи мои нечестивы, миледи, наложите на меня епитимью, я смиренно приму ее.
Она сказала совсем о другом — повторив, собственно, свой первый вопрос, но в другой форме:
— Человек, лежащий в часовне, не тот, кого вы так безмерно ненавидите?
— Нет, миледи, но, когда я увидел его, мысли мои смешались, и на какое-то время я подумал, что это он. Тогда я и потерял сознание… — Он опять прервал свою речь. — Я долгие месяцы молил Бога, чтобы Он избавил меня от встречи с этим человеком, потому что боялся нарушить одну из заповедей и поднять на него руку…
Не зашел ли он слишком далеко в своих признаниях, подумал Томас и до крови прикусил щеку изнутри. У крови, как и у его воспоминаний, был горький привкус.
— Тяжкое признание для человека, посвятившего себя Господу, — услышал он слова Элинор.
В ее голосе не было осуждения — только задумчивость. И раздумья. Это его радовало. И подтверждало его мнение, сложившееся о ней как о женщине с особым складом ума, какого он, пожалуй, не встречал и у мужчин. Да, это радовало, но и вызывало некоторую оторопь, даже страх, какой охватывает порою во время ночных кошмаров, когда спящий видит себя в помещении, куда вот-вот должен войти некто неизвестный и с неведомыми намерениями.
— Можете вы сказать мне, Томас, — снова раздался тот же раздумчивый голос, — какие жестокости творил тот человек? Многие из нас не умеют прощать другого, как повелевает Бог, и лишь немногие обладают способностью и волей не нарушать одну из главных Его заповедей, что даны были Моисею в пустыне.
Эта женщина рассуждает, как ей велено всеми канонами, в которых она росла, воспитывалась и оттачивала свой ум и знания. Но может ли она понять глубину его страстной ненависти? Может ли вообще женщина, избравшая для себя путь подавления страстей, понять всю силу любви или ненависти? И что эти два столь противоположных чувства могут объединиться в едином желании смерти? Слава Богу, никто и никогда не подвергал ее таким же пыткам и унижениям, как его, за одну лишь робкую попытку любить… Однако весьма возможно — его бы это не удивило, — что эта красивая женщина с железным характером тоже захотела бы убить своего мучителя…
Он вздрогнул, поняв, что она все еще рядом с ним и ждет ответа. Сейчас ему следует быть особенно осторожным, чтобы до конца не выдать себя, не раскрыть всей меры своего унижения, однако сказать достаточно для подтверждения своей невиновности в том, в чем его заподозрил Ральф.
— Что сделал тот человек? — с расстановкой повторил ее вопрос Томас. — Он уморил голодом заключенного, у кого не было денег, чтобы выкупить свою жизнь. Он издевался над ним, заставляя глядеть на куски червивого хлеба, до которого тот не был в состоянии дотянуться, и наблюдая за тем, как узник умирает на его глазах.