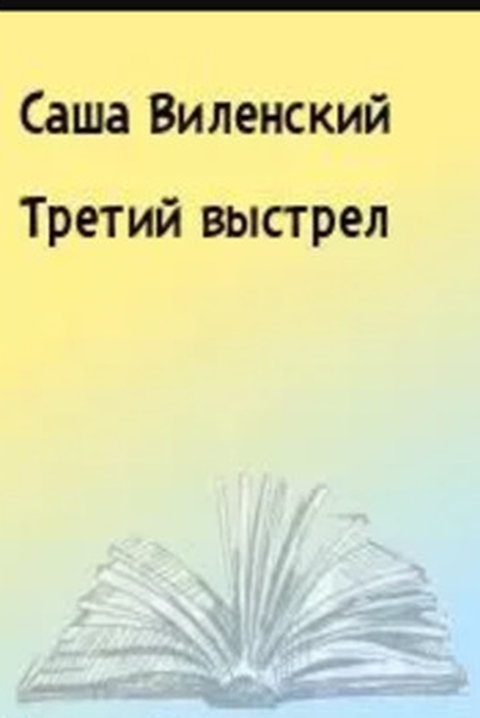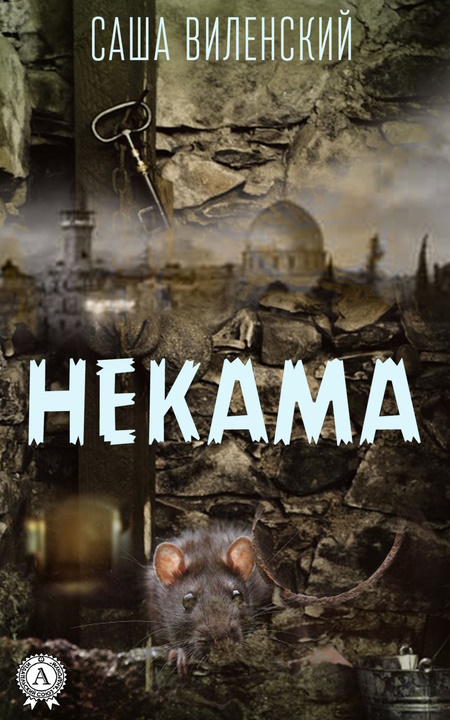и просто убить. «Просто». Просто так. Нет, как она ни гнала от себя эту жуть, но каждый раз поднимая прицел пулемета и наводя его на мечущиеся фигурки, она думала про тех троих. И тогда нажимала на гашетку.
Пленных не брали. С ними просто нечего было делать: таскать за собой — бессмысленно, запирать где-то под замок — тем более. Врагов, кто сдавался в робкой надежде выжить, выдавали местные жители, рассказывая об их зверствах. А тем, про кого было известно, что они душегубством не занимались, предлагали вступить в вольную крестьянскую армию батьки Махно. Отказавшихся рубили на месте шашками — патроны экономили. Все понимали, что попади они в плен другой стороне, с ними поступят точно так же. Поэтому если и дрались, то и те, и другие дрались отчаянно, насмерть. Так и так было помирать, без вариантов.
Каждый раз, перед тем как отдать приказ «Рубить!», Маня звала Диту, и та внимательно осматривала пленных, искала своих насильников. Но каждый раз отрицательно мотала головой, и тогда атаман махала рукой: руби, ребята, не жалей гадов! Безжалостно? А как иначе? Их тоже никто не пожалеет.
Дита толком и не помнила тех, кто ее… Но чувствовала: увидит — узнает. Так и произошло.
Ворвались в очередное село, все шло как обычно — конники носились по улицам, спешивались, врывались в хаты, рубили пытающихся убегать, а тех, кто все же вырвался, Дита расстреливала короткими очередями. Затем все также привычно прошлись по хатам, вытащили тех, кто, надеясь спастись, прятался в погребах, да на чердаках, вывели их, босых, в одних подштанниках, на центральную площадь, перед церковью. Построили в ряд, туда и подъехала тачанка с Дитой. Развернулась, взяв под прицел шеренгу дрожащих от декабрьского холода солдат.
Его она сразу узнала. Много раз думала, да что там, все время думала, узнает или нет, до этого момента сомневалась, вспомнит ли его лицо, а как увидела, сразу поняла: он. Тот, который назвал ее Сарой Абрамовной, разбил губу… Про остальное не хотела. Чуть не завыла, сдержалась, подошла к жалкому теперь мужику, переминавшемуся босыми ногами на стылой земле. Внимательно вгляделась. Точно! Он. Спросила:
— Не узнаешь?
Мужик затравленно посмотрел на нее, синими трясущимися губами ответил:
— Ні, не впізнаю.
— Ну сейчас «впизнаешь». Жидовочку помнишь? Которую вы тогда втроем снасильничали?
— Ти з глузду з'їхала чи що? — Мужик почти кричал, но Дита поняла: узнал, скотина. До этой минуты не помнил, мало ли их было таких жидовочек да кацапочек на его пути? А теперь сразу вспомнил. — Я тебе перший раз в житті бачу, що ти на мене наклеп зводиш?!
— Поклеп, значит, — Дита повернулась к Мане, кивнула. Маня только переспросила:
— Точно?
Дита кивнула. И снова нахлынула страшная боль и спереди, и сзади, снова затошнило, замутило, затряслись руки. И вспомнила все плохие слова, какие знала. Только вот не была уверена, что если этот мужик умрет, то ее попустит.
Маня подошла к петлюровцу, улыбнулась и сказала:
— Не в добрый час ты нам попался. Ох, не в добрый. Ну, ничего, сейчас сам узнаешь, до чего не добрый.
— А те двое где? — спросила Дита.
Мужик пожал плечами.
— Какие двое?
— Ну ладно, не хочешь — как хочешь.
Маня оглядела с десяток пленных, синих от холода. «Какие у них страшные ногти на ногах, — не к месту подумала девушка, — как панцирь!»
— Мы их все равно отыщем, если живы. Молись, чтобы померли уже, — Дита старалась быть твердой, зная, что мужика ждет страшное. А Маня неожиданно весело сказала:
— Чтоб тебе стало еще обидней, я вот этих всех отпущу. А ты останешься. Куда?! А ну назад! Я еще никого не отпустила! — страшным голосом закричала она, когда пленные попытались разбежаться. Манины бойцы прикладами загнали их обратно. Площадь постепенно заполнялась народом.
— Куда побежали-то, болезные? Вы сначала посмотрите, что бывает с теми, кто насильничает ваших жен и дочерей, кто издевается над беззащитным народом, а потом пойдете мотать себе на ус, ясно? А тут, значит, такой вопрос, — обратилась она к замершему от страха и холода мужику. — Хотели мы вас шашками всех порубить, но я передумала. Так что есть у тебя два выхода, потому как я сегодня добрая. Даю тебе самому выбрать: или мы тебя на кол посадим, чтобы ты прочувствовал, что это такое, когда тебе в жопу вставляют. Вот чтоб пробрало тебя по самое не могу. А будет это на морозе длиться долго, очень долго, мучиться будешь сильно. Или я тебя вместе с ними отпущу. Но перед этим яйца отрежу, чтоб ты больше не пакостил, говнюк. И потопаешь домой к жинке своей без бубенчиков, обрадуешь, что чоловiк живой с войны вернулся. Не весь, конечно, но она ж тебя и такого примет, правда? Так что выбирай.
— Пристрели лучше, сука, — прохрипел мужик.
— Ты смотри! Он, оказывается, и по-русски говорит! Нет, не будет тебе легкой смерти, не дам. У тебя минута на решение. Ну? Или мне за тебя выбрать?
Толпа на площади зашумела, заволновалась.
— Слышь, баба, не знаю як тебе величати, — крикнул кто-то. Маня повернулась. — Не издевайся, добий його просто, а то відпусти, як цих.
— Бабой свою жинку кликать будешь, если не хочешь, чтобы я тебя тут рядом с ними поставила и на пару яиц укоротила. Не надо мне указывать, как с врагами поступать, понял? А то и тебя врагом посчитаю, не задумаюсь.
Селяне зашумели, запереговаривались, смотрели на лихого атамана со страхом.
Дита обратила внимание на смутно знакомую женщину с непокрытой головой. Собственно, именно поэтому она и поняла, что где-то ее уже видела. Женщина смотрела на нее широко раскрытыми влажными глазами. Вспомнила: она же тогда наткнулась на них с Дорой на Божедомке, она тогда еще отметила эту непривычную стрижку и странную одежду. Что она тут делает? Наверное, тоже от московского голода сбежала, решила Дита и сразу забыла о ней.
— Ну что, решил? — спросила Маня посиневшего уже от холода и страха мужика.
— Пошадишь? Пощади! — он упал на колени, заплакал. — Христом богом молю, пощади!
— Ну ты какой-то совсем неграмотный, откуда у анархистов вера в Христа? — засмеялась Маня. — Да и верила бы — не простила.
— Да пощади ты его! — крикнул кто-то в рядах селян.
— А он бы меня пощадил коли б я ему попалась? А? — крикнула в ответ Маня, и поворотилась к мужику. — Так что решай, нам тут целый день мерзнуть неинтересно.
— Руби… — просипел тот.
— Смотри, как жить-то тебе хочется! Ну, будешь жить, хоть и без