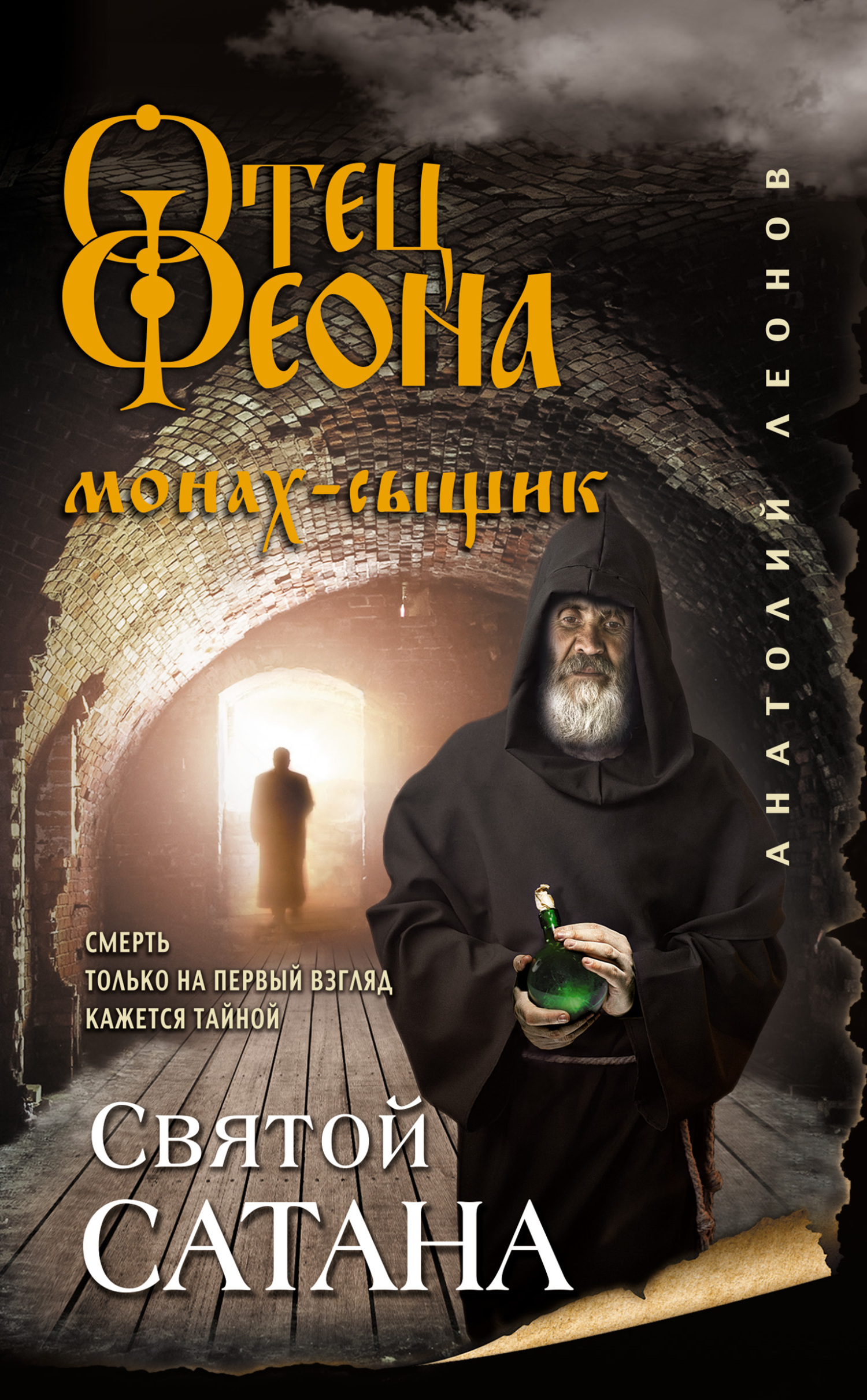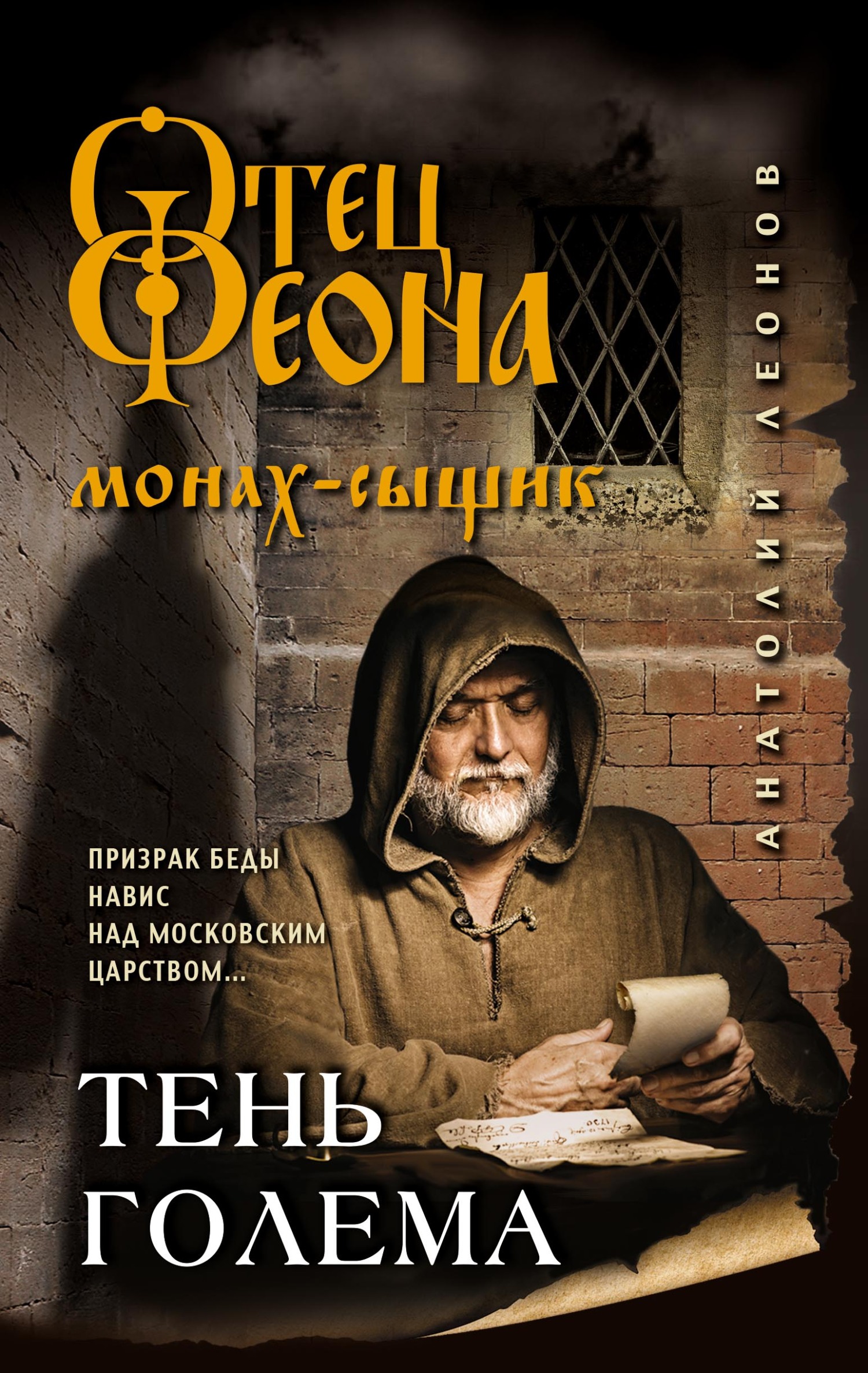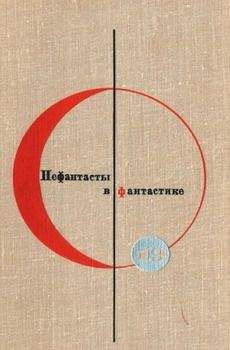каким-то чудом пережившем смуту и польскую оккупацию. Стул был неудобный, поэтому царь все время вертелся и менял положение тела.
– Ты чего вертишься, когда с матерью разговариваешь? – грозно окрикнула Марфа и положила на плечо Михаила свою руку.
– Неудобно! – признался царь, морщась.
– Неудобно теперь мне! – осадила сына мать. – Говорила тебе, Мишаня, избавься от Машки. Не должна она родниться с царским домом. Беда будет! Не слушал мать, а беда вот и пришла!
– О чем ты, матушка, чем опять Маша перед тобой провинилась?
– Не передо мной, а перед тобой. Перед всем народом!
– Эка ты хватила, маменька! Так уж и перед всем народом?
– Не смейся, дурень, тут нет никого, потому говорю не таясь. – Марфа протянула руку и взяла с приставного столика один из свитков. – Для чего заключаются браки у царских особ? Чтоб потомство иметь! Чтобы род не пресекся! Но твоя Машка и здесь не сдюжила!
Царь возмущенно замотал головой.
– Вздор! Зачем нести такую нелепицу! Маша лишь приболела слегка.
Марфа криво ухмыльнулась и протянула свиток Михаилу.
– Вздор, говоришь, нелепица! На вот, почитай.
– Что это? – насторожился Михаил.
– Врачебная сказка архиатора твоего, Бильса.
Царь читал, и глаза его округлялись от удивления.
– Как такое может быть? Тут написано: «Царская невеста к государевой радости непрочна».
– А что непонятно? – засмеялась Марфа. – Ты, Миша, как ребенок. Ялая [144] твоя Машка!
– Нет! Доктор Валентин [145] два дня назад совсем другое писал, мол, плоду и чадородию от того порухи не бывает!
– Ну писал, а теперь другое написал. Медицина – дело темное. Случается, и хорошие доктора ошибки делают. Теперь вот взял и осознал. Там кроме него и врач Бальсыр [146] расписался.
– Все равно не верю!
– Экий ты, Миша, упрямец, право слово!
Марфа в сердцах плюнула себе под ноги и тут же испуганно сотворила крестное знаменье.
– А не хочешь тогда еще одну занятную бумагу? – Марфа взяла со стола свиток, значительно более увесистый, чем первый.
– Что это? – кивнул царь, даже не делая попытки взять в руки протянутый документ.
– Допросные листы ведьмы одной, Акулины Нетесовой, старой мамки невесты твоей, Машки, которая признается, что обучала Хлопову ворожбе и другим колдовским премудростям. О том есть подтверждение от другой Акулининой ученицы, жонки Манефы, вдовицы истопника Куземки Мокеева… Еще хочешь?
– Хватит!
Михаил поднял на мать бледное, вмиг осунувшееся лицо и спросил, едва шевеля губами:
– Что ты собираешься с этим делать?
– Что и положено матери государя, дабы пресечь смуту в державе нашей. Созову Земский собор! Пусть он решает, что делать! А вот какую из двух грамот он рассматривать будет – решать, Миша, тебе!
Марфа встала с трона и тяжелой поступью направилась к выходу, но в дверях обернулась.
– Думай, Миша! Срок у тебя до завтра, потом не обессудь.
Инокиня ушла, а царь так и сидел на приставном стуле, зажав голову руками. Проестев тихо вошел в престольную. Услышав осторожные шаги, Михаил обернулся.
– А-а, это ты, все слышал?
– Прости, государь, слишком громко говорили!
– Тогда скажи, что мне делать?
Проестев подошел ближе и встал перед царем на колени.
– Государь, думаю так: ведовство – занятие опасное. По закону – смерть! А врачебная сказка всего лишь грамота. Там нет злого умысла, а значит, в худшем случае ссылка. Не стоит дразнить гусей. Выбери второе, а там я что-нибудь придумаю. Человек – Божья тварь! Он как заболеть, так и вылечиться может!
Михаил молча посмотрел на Проестева и заплакал.
Ранним утром накануне дня празднования Казанской иконы Божией Матери [147] из ворот Новоспасского монастыря выехали широкие розвальни, запряженные молодым монастырским меринком, лохматым, как лесной кабан. Возница в овчинном тулупе, закутанный по самые глаза в разноцветное тряпье, лениво понукал его вожжами, с тревогой всматриваясь в ледяной туман, со вчерашнего дня стоявший в Заяузье, на Каменщиках и Болвановке.
После относительно теплой осени конец октября озадачил москвичей настоящей «черной зимой», малоснежной и очень холодной. Красота природы волновала их в последнюю очередь, а поскольку половина города кормилась за счет садоводства и огородничества, то зима без снега тревожила каждого. Бескормица неурожайных лет грозила слободскому люду голодом, долговой кабалой и весьма вероятной гибелью. Все это они помнили по прошлым годам, и от того переживания их только усиливались.
В санях, спиной к вознице, прикрывшись верблюжьей кошмой, лежали двое – отец Феона и архимандрит Дионисий. Старец сильно осунулся и исхудал, но глаза его искрились юношеским задором и интересом к окружающему миру. Сквозь ледяной туман в вышине просвечивалось ясное небо, на котором удивительным образом одновременно мерцали два земных светила, солнце и луна. Дионисий молча смотрел вверх, ловил сухими обветренными губами то ли снежинки, то ли крохотные льдинки, падающие с морозного неба, и улыбался тихой улыбкой блаженного.
Отец Феона бросил на архимандрита озадаченный взгляд.
– Отче, разве не горько тебе от несправедливости, что сотворили с тобой твои лютые недруги?
Дионисий приподнялся на локтях, посмотрел на Феону и звонко рассмеялся.
– Горько – значит обидно? Ты сейчас про меня или про себя спрашиваешь?
– Не понял? – удивился Феона. – О чем ты, отче?
– Не лукавь со мной, отец Феона. Знаю я тебя без малого три года и скажу – нет в твоей душе ни покоя, ни христианского смирения. Что-то темное и злое гложет тебя изнутри, ищет выхода, а найти не может!
Хмурое лицо собеседника заставило Дионисия сменить тему. Он расслабленно откинулся на солому и прикрылся колючей, но очень теплой кошмой.
– Горько ли мне? – продолжил он начатый до того разговор. – Нет! Обидно? Тоже нет! Разрешая себе обиду, человек разрешает себе быть слабым. Жить с уязвленной душой человеку намного труднее! Ведь храня недобрую память о людях, мы в первую очередь мучаем самих себя. Тем, на кого мы обижаемся, нет дела до наших переживаний, они, скорее всего, даже не замечают их, в то время как наше сердце, отравленное ядом мщения, изнывает под тяжестью пустых переживаний. Потому правильнее будет обиде волю не давать! Не согласен, отец Феона?
– Не знаю, что сказать, отче. Умом понимаю – прав ты, но душа эту правду принимать не желает!
Дионисий с сочувствием посмотрел на собеседника.
– Когда-нибудь и боль пройдет, лишь шрамы останутся!
– Когда же придет это время?
– От тебя зависит. Только память может измерить время. Вспомнишь плохое и захочешь его забыть. Чем слабее память, тем короче время!
– Как просто! – печально усмехнулся Феона.
Розвальни резко остановились.
– Что случилось, сын мой? – Дионисий повернулся к возничему.
– Да эвон, –