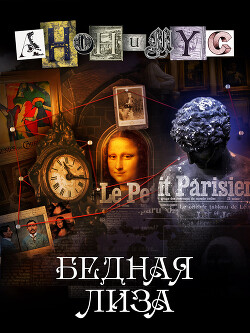Когда стало ясно, что перевербовать ее попросту невозможно, пришлось отступить на шаг и задуматься о том, как поступить с ней дальше. Все дело в том, что такой агент, как Анна-Мария на службе у немецкой разведки мог принести огромный ущерб Антанте в целом и России в частности. При этом, как уже говорилось, завербовать ее не представлялось возможным.
Что было делать? Попробовать убить? Но это было опасно. Разумеется, русская разведка опасалась не итальянской полиции, а немецкой контрразведки, которая наверняка начала бы расследовать ее внезапную смерть и вышла бы на некоего Микеле Кастильоне, с которым она была близка. А там недолго было и до разоблачения, которое нанесло бы ущерб всей русской разведочной сети в Европе.
– Кроме того, я не хотел убивать близкую мне женщину, пусть даже и вражеского агента, – вдруг перебил сам себя Кибрик.
– Ну да, мы это уже поняли, – поморщился я.
– И передо мной встал вопрос: как обезвредить столь опасного агента? – продолжал Кибрик, не обращая внимания на мой тон. – Это был тяжелый, почти нерешаемый вопрос. Но я нашел способ…
– Я догадываюсь, что вы придумали, – перебил я его. – Судя по тому, как закончилась ее жизнь, вы решили приохотить ее к кокаину и морфию. Расчет был простой. Она станет зависимой, воля ее будет подавлена, и вы сможете ею управлять. А если это не выгорит, то все равно, наркотики сожгут ее в кратчайшие сроки, она потеряет над собой всякую власть и перестанет быть опасной для русской разведки. План действенный, не спорю, хотя и несколько бесчеловечный. К несчастью для вас, она оказалась крепким орешком, и держалась на удивление долго.
– Вы осуждаете меня? – глухо проговорил Кибрик.
– Это неважно, – сухо отвечал я. – Для суда над вами есть иные инстанции. Вы не захотели убивать близкую вам женщину, зато вы сломали ей жизнь.
Кибрик рухнул обратно в кресло и спрятал лицо в ладонях. Так он сидел некоторое время, потом выговорил еле слышно:
– Она была врагом… Я должен был ее остановить.
– Да, – неожиданно сказал Ганцзалин. – И вы сделали это самым безопасным для себя и самым подлым способом.
Кибрик молчал. Я поднялся, подошел к окну и отдернул занавеску. Наш этаж был полуподвальным, и мостовая находилась прямо на уровне моих глаз. Но даже так к нам проникли слабые лучи хмурого осеннего рассвета.
– Ночь кончилась, светает, – сказал я задумчиво. – Много лет я наблюдаю рассвет, и всякий раз он символизирует надежду на то, что все так или иначе выправится, что все будет хорошо. Однако чем старше я становлюсь, тем меньше надежды остается у человечества. И сейчас, мне кажется, мы уже почти не отличаем ночь ото дня, а надежду от отчаяния.
С минуту я молчал, потом сказал, стараясь, чтобы голос мой не звучал слишком враждебно.
– Господин подполковник, на улице утро. Я обещал вам дать приют на ночь, и я свое обещание исполнил. Даю вам слово, что никому не скажу о вашем визите и – не смею больше вас задерживать.
Кибрик молча поднялся с кресла, надел свое пальто, поднял воротник и, не прощаясь, вышел вон из дворницкой.
– Надо проветрить, – сказал Ганцзалин, – здесь слишком душно.
Он открыл форточку, смотрел на то, как по мокрому асфальту прыгают воробьи.
– Учение Будды дает бодхисаттве десять тысяч искусных способов спасти человека и человечество, – проговорил Ганцзалин негромко. – Но иногда этих способов недостаточно. Иногда никого спасти нельзя.
Он умолк, опечаленный. Я увидел, как воробей попал в лужу и стал недовольно отряхиваться от холодной мокрой воды, на миг превратившись в трепещущий шарик. Я невольно улыбнулся и повернулся к помощнику.
– Да, – проговорил я. – Бывает, конечно, и такое, что спасти человечество никак невозможно. Однако, на мой взгляд, попробовать все-таки стоит.
Ганцзалин немного помолчал, потом кивнул головой.
– И мы попробуем, – сказал он, – попробуем непременно.
Эпилог. Старший следователь Волин
Генерал Воронцов отложил последний лист дневника в сторону, однако тут внезапно выяснилось, что он вовсе не последний. Под ним обнаружился еще один листок, с припиской Волина.
«Вот, дорогой Сергей Сергеевич, – писал старший следователь, – изволите видеть, я постепенно становлюсь настоящим дешифровщиком, литературным редактором и по совместительству – реставратором текста. Между прочим, в данном случае это оказалось гораздо труднее, чем можно предположить. Как я уже написал в предварении, в нескольких местах страницы рукописи повреждены, говоря человеческим языком, там дырки. Учитывая, что весь текст – сплошная тайнопись, восстанавливать эти места было совсем непросто, но, кажется, я все-таки справился. Был, конечно, соблазн написать какую-нибудь отсебятину, но это было бы чистым хулиганством, а я, как ни крути, во-первых, слуга закона, во-вторых, человек добросовестный.
Говоря откровенно, меня во всех этих историях в первую очередь поразил трагизм существования. Очевидно, что это не сказка и не притча, где ангелы с белыми крыльями сражаются против хвостатых и рогатых демонов, это реальная жизнь, где одни люди противостоят другим. И в тех, и в других есть хорошее и плохое, и те, и другие по-своему умны и талантливы. И все, что их в данном случае разделяет, так это то, что одни – скажем, немцы или австрийцы, а другие – русские или французы. Встает резонный вопрос: на чьей тогда стороне правда, где искать справедливости?»
Воронцов хмуро улыбнулся уголком рта, отложил в стопку и последний лист. Посмотрел на фарфоровую чашку, на дне которой желтел недопитый улун, на пустую вазочку для печенья.
– Как бывший работник Комитета и человек, причастный к государственным тайнам, заявляю тебе, Орест Витальевич, что правда, как и справедливость, безусловно, на нашей стороне, – проговорил он в пустоту. – Однако как частное лицо скажу, что нет на этом свете ни справедливости, ни правды. Зато, как говорил Пушкин, есть покой и воля. И чем раньше ты это поймешь, тем дольше и счастливее будет твоя жизнь.
Сказав так, он откинулся на спинку кресла и смежил веки. В комнате воцарилась совершенная тишина, слышно было только, как на кухне, прямо на стене, одиноко тикают старинные механические часы с кукушкой…
Примечания
15 градусов по Реомюру – примерно 20 градусов по Цельсию.
Аd captandum respectum (лат.) – для снискания уважения.
Ифриты – в арабском фольклоре так обычно зовутся злые и мятежные джинны.
Йахуд, яхуд (араб.) – этим словом в Коране Мухаммед обозначает иудеев.