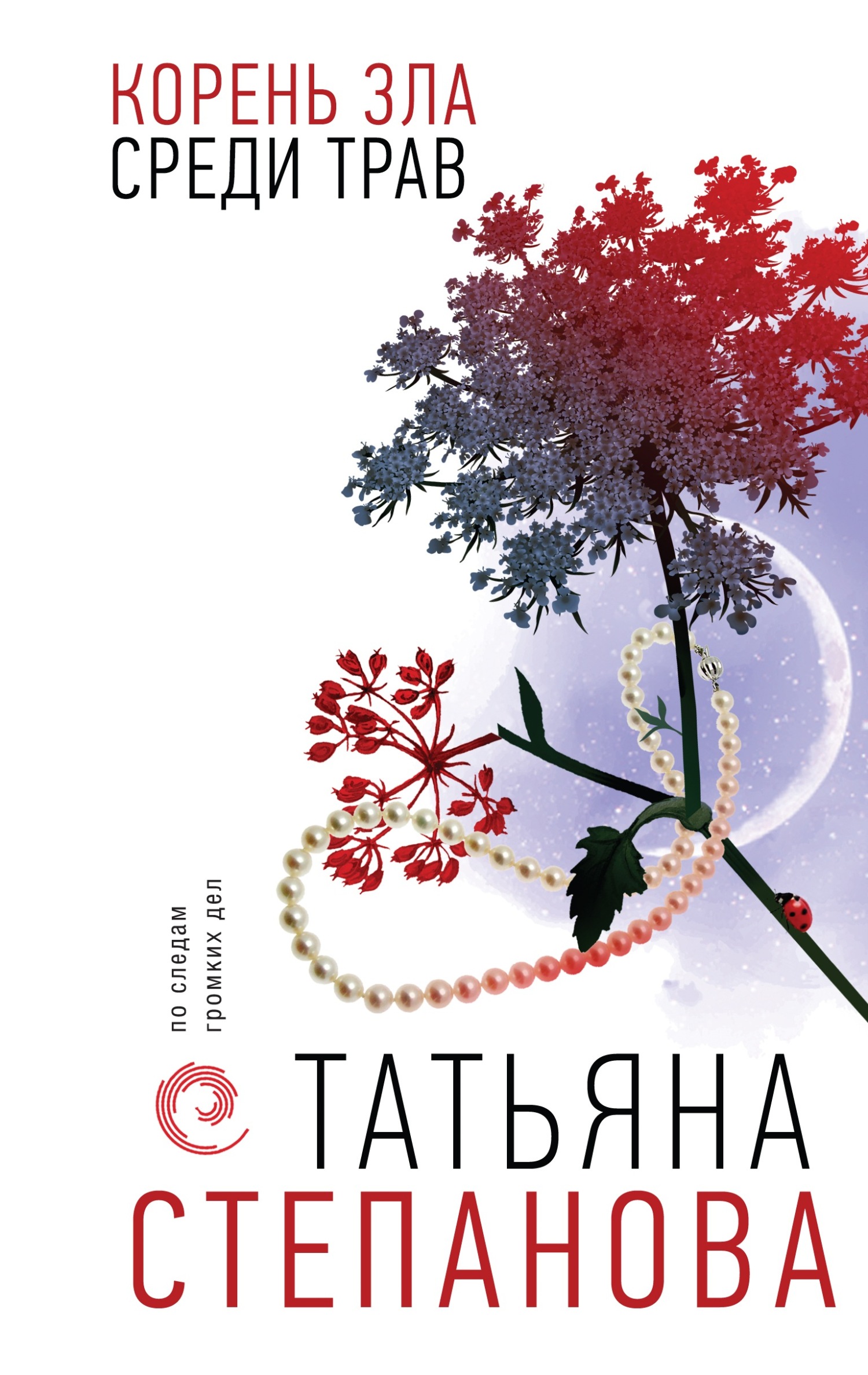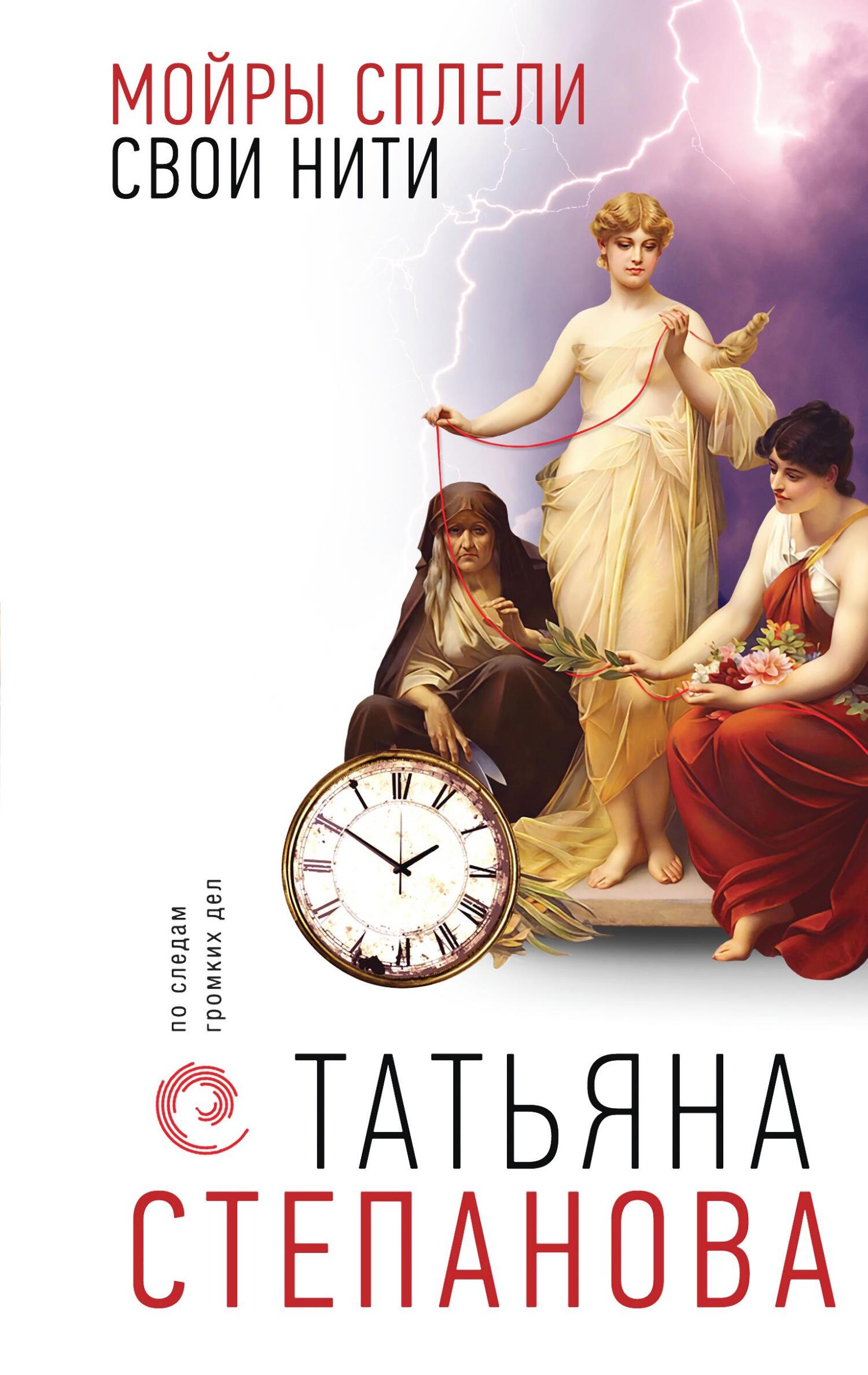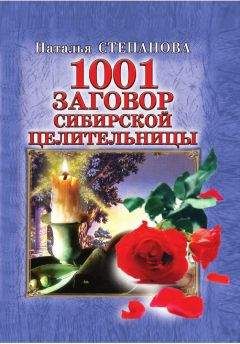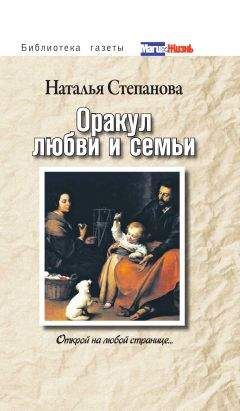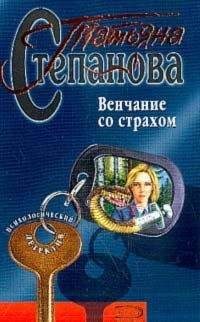подругу под руку. – Он и так был сильно взволнован, когда… Клер, когда они привезли вас сюда без памяти, то… Он сам лично нес вас на руках из кареты до вашей комнаты. Клер, ваше черное платье… вы видели, что с ним стало – лохмотья, так он завернул вас в свой редингот. Благо, тот остался сухим, когда он прыгнул в воду с моста, услышав женские крики. Граф был весьма лаконичен со мной насчет всех обстоятельств происшедшего, он не желает, чтобы посторонние знали подробности… оно и понятно. Но я не посторонняя – я ваша подруга, Клер. Я узнала все от его денщика – он сказал, что они, проезжая по мосту, услышали отчаянные женские крики, и граф решил, что женщина тонет в канале. Он прыгнул прямо с моста в воду. А потом понял, что кричат с берега. Он доплыл до него, напавшего на вас негодяя от него отделяли заросли кустов. Он его не видел. Мерзавец сбежал. А Комаровский подхватил вас на руки, как в том французском романе-водевиле, что в его переводе так популярен до сих пор. Герой-спаситель, рыцарь без страха и упрека. – Юлия произнесла это зло и горько. – Он решил, что после этого я приму его здесь, в своем доме, с распростертыми объятиями. Но он ошибся, Клер.
Они медленно брели по аллее, заходящее солнце щедро дарило оранжевый свет свой густой зелени и толстым столетним стволам. Юлия предложила Клер пройтись до дома стряпчего Петухова: его дочь Аглая часто переписывала для них ноты. Ей как раз отдали на переписку партитуру новой итальянской оперы, пришедшую с недавней почтой из Москвы. Юлия хотела этим самым отвлечь Клер от того, что случилось – ноты, опера, пение… Конечно же, никто не собирался петь именно сейчас, но это все же какое-то занятие – прогулка пешком к домику стряпчего, беседа, свежий воздух…
Клер вспомнила, как два дня не поднималась с постели. В первый день она не вставала от головокружения и головной боли, на второй день – от слабости, стыда и отчаяния. Юлия заходила к ней, садилась рядом с кроватью, гладила ее по голове, тихонько уговаривала, как больного ребенка, потом выскальзывала прочь, а Клер поворачивалась на спину и смотрела в потолок.
После того как ее пытались изнасиловать, она ощущала себя… странное какое чувство… словно что-то сломалось внутри… Хотя ведь нападавший не успел осуществить задуманное – ее спасли от наивысшего стыда и позора, однако где проходит та грань – между позором бо́льшим и меньшим в такой ситуации?
Платье…
Горничная хотела его сразу выбросить, однако Клер не позволила этого сделать. Того, что она была завернута в чужой мужской редингот, и того, как ее раздевали, облачая в ночную сорочку, она не помнила. Юлия переодела ее сама, не пустив в комнату даже горничную. На третий день, когда Клер встала с постели, она осмотрела свое черное платье – сзади оно было разорвано почти пополам, все вымазано грязью. Рваными и грязными были также и все нижние шелковые юбки. В жаркие летние дни Клер не надевала корсета. Когда она смотрела на свое располосованное платье, она с ужасом представляла, в каком же виде она была там, на берегу, когда они все – этот генерал, его денщик и кучер – увидели ее: голой и грязной, подобно последней непотребной девке.
Тогда же, на третий день своего заточения, преодолевая слабость, она попросила принести ей много горячей воды и большой таз. В доме в Иславском имелась прекрасная ванная, обустроенная на английский манер, но у Клер не было пока сил выйти наружу. И она остервенело мылась прямо у себя в комнате, стоя в тазу и поливая всю себя горячей водой из трех кувшинов. Терла до красноты кожу мыльной мочалкой, осматривала ссадины на груди и бедрах, оставленные мелкими камнями, когда он, насильник… Когда он пытался сзади овладеть ею, разглядывала ужасные багровые синяки на ребрах, когда он избивал ее в кустах у беседки.
Вымывшись, она завернулась в простыню и рухнула на кровать. Ей не хватало присутствия духа глянуть в зеркало на свое разбитое лицо.
– Я не приняла вашего спасителя графа Комаровского в своем доме, – продолжала Юлия Борисовна. – После того как он собственноручно отнес вас в вашу спальню, он два часа, пока мы хлопотали вокруг вас, просидел в гостиной – в своей мокрой одежде, как был. Я велела, правда, зажечь там камин, чтобы он хоть немного обсох. Потом мы коротко поговорили. Он сказал, что приехал из Москвы поклониться могиле своего друга – моего мужа. Я ответила, что зимой, будучи в Москве, когда он привез известие о восшествии на престол нынешнего государя и искоренял московскую крамолу, учиняя дознание и розыски, аресты и допросы многих моих друзей, родственников и знакомых, подозревая их в причастности к восстанию и участию в тайных обществах, о своем дружеском долге перед моим покойным мужем он даже и не вспомнил. Я сказала ему, что благодарна за ваше спасение, Клер, но ему лучше покинуть Иславское, где ему не рады. Он был уязвлен в своей гордыне и… уехал ночью. Но он покинул только мой дом, понимаете? Уже на пороге он объявил мне, что лично проведет дознание здесь о том, кто напал на вас, и найдет преступника. Я повторяю – известие о том, что вы та самая Клер Клермонт, поразило его несказанно. Конечно, он слышал о вас – вы же знаете, сколько любопытства и слухов вы породили в свете, когда приехали в Россию. Он слышал о вас не просто светские новости, но думаю, интересовался вами и по долгу службы. Жандармы ведь всегда в курсе всего происшедшего. А вы очень заметная фигура, Клер. Все европейские газеты писали о вас, о Байроне, о ваших отношениях и вашей битве за дочь. Так что генерал слышал о вас. И вот увидел. И поэтому он не уезжает отсюда. Мне еще раньше писали мои друзья из Петербурга – все то время, пока заседал Высокий уголовный суд, генерал Комаровский не мог показаться в свете во многих домах, где он прежде бывал как друг и сановник такого ранга. Его просто перестали принимать – сказывались больными, уезжали. От него стали шарахаться как от чумы, понимаете? В глаза ему никто, конечно, ничего такого не говорил, но он стал изгоем там, где привык прежде к дружескому свободному общению. Сразу после вынесения приговора он написал на высочайшее имя прошение о бессрочном отпуске.