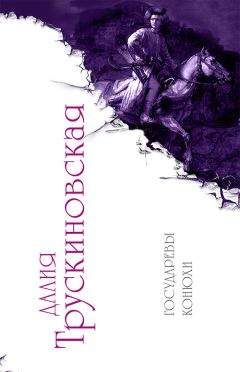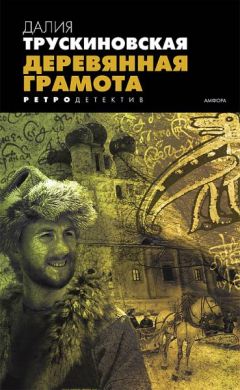Тут он запнулся — никак не мог придумать, которым боком пристегнуть к покойнице Устинье ту странную девку, что пыталась забраться к ней в дом, но была вспугнута им же, Данилкой, и удрала по-хитрому.
Ваня, хоть и был молод, но многое понимал. И то, что Данилке страх как не хочется чувствовать себя виновным в Родькиной беде — вот он и придумывает всякие выкрутасы.
Не первый год знал Ваня дружка. Видел его и отупевшим от тяжелого однообразного труда, засыпающим на ходу, но упрямо продолжающим возню с дровами или с ведрами. Гордость мешала Данилке смириться с тем, что по его невольной вине выяснилась причастность Родьки к смерти Устиньи, — это Ваня понимал без слов. Ну да что уж поделаешь, коли дружок такой гордый попался?
— Так ты завтра с утра растолкуй все это деду, а он уж догадается, как дальше быть, — посоветовал Ваня. — А пока я тебя тут устрою. Тут коротко, ну да умостишься и выспишься.
И прибавил по-взрослому:
— Утро вечера мудренее.
— Нет, Ваня… — почему-то почти шепотом возразил Данилка. — К деду на конюшню идти нужно. Не пойду.
— Бог с тобой, я ему скажу, — Ваня встал.
Этот разговор начал ему надоедать, и единственным средством прекратить его было — поскорее принести Данилке войлочный тюфячок и старую шубу, чем укрыться.
Пропадал Ваня долго — должно быть, объяснялся с женой из-за шубы с тюфяком.
Данилка сидел и думу думал.
Нет, не Родька удавил Устинью. Устинья ему и дверей-то не открыла бы! Данилка вспомнил, что толковал на Родькином дворе тот земский ярыжка, и внутренне согласился с ним. Родька вряд ли сошелся с толстомясой Устиньей — он скорее бы нашел себе полюбовницу среди тех лихих женок, селившихся поблизости от кружечных дворов, которые оказывали гостеприимство пьющим людям. Ведь распивать купленное прямо на кружечном дворе государь не велел, домой не всякий тащить хочет, и в большом почете та бойкая кумушка, к которой тут же можно завернуть, получив за малые деньги миску соленых рыжиков на закуску, а то еще и саму хозяйку в придачу.
Когда Ваня принес что подстелить и чем укрыться, Данилка уже все придумал.
— Нужно сыскать, где Родька эту ночь провел. Ежели с вечера пить начал, то там, где пил, поди, и заночевал. А когда тот дом сыщется…
— Отпусти душу на покаяние! — взмолился Ваня. — Ты моего Артемонки дурее, право! И что же — так и будешь шататься вокруг кружал, аки шпынь ненадобный? Да ведь ты со своими дурацкими расспросами как раз под чей-нибудь кулак со свинчаткой угодишь!
— Буду, Ваня, — сурово отвечал Данилка. — Иначе мне на Аргамачьих конюшнях не жить.
На это Ване возразить было нечего.
— И как же ты расспрашивать собираешься? Мол, не видал ли кто государева стряпчего конюха в непотребном виде? И не приметил ли, которая зазорная девка его подобрала и спать с собой уложила?
Тут Данилка призадумался.
Он попробовал вызвать перед глазами лицо Родьки Анофриева, чтобы выявить приметы. И оказалось, что таковых у Родьки вообще нет — волосы того же русого темноватого цвета, что и у всех здешних, нос обыкновенный и борода обыкновенная, ни длинная и ни короткая. Бородавок и родимых пятен на видных местах не имеется. А заглянуть поглубже и определить хотя бы цвет глаз Данилке и на ум не пришло.
— Вань, а сколько тому Родьке лет?
— Родьке-то?
Восемнадцатилетний Ваня с детства привык к тому, что Родька — уже большой и бородатый. Никогда он не задавал себе такого вопроса — сколько лет тому или иному из конюхов. А вот теперь задал и призадумался.
— Старшенькому его, Матвейке, двенадцать, поди… Или даже больше… — начал соображать Ваня. — Когда он родился — это уж у тещи моей спрашивать нужно, бабы за такими делами следят. Ну, скажем, если как у меня Артемонка, то Родьке должно быть лет тридцать, ну, чуть поболее… А если как Васька у Гришки, так Родьке…
Гришка Анофриев первую жену с детьми потерял в чумное время, поспешил жениться, и его старшему, Васе, было уже два года, самому же Гришке — под сорок.
— Нет, Данила, возраст — не примета, — помаявшись, решил Ваня. — Вон деду нашему иной шестьдесят на вид даст, а иной — восемьдесят лет. Мне-то самому по-разному дают. Кончай ты этой блажью маяться и спи!
С тем и ушел.
Данилка разулся и улегся на доске, согнув колени. Места мало, да уж выбирать не приходится. Под шубой он угрелся и даже засунул ноги в разошедшийся шов между сукном и мехом. Ногам сделалось совсем хорошо. Есть, правда, хотелось, ну да так не бывает, чтобы и тепло, и сытно, и спокойно разом.
Обычно Данилка, уработавшись, засыпал мгновенно. Однако этот день выдался бездельный — как увел его дед с конюшни, так Данилка и слонялся незнамо где, умаяться не успел. Вот и уснул не сразу, тем более что голова от размышлений гудела.
Проснулся он оттого, что на дворе звонко лаял пес. Видно, хозяева, выглянув в окошко, признали раннего гостя, потому что дверь в сенцы отворилась и баба в шубе выбежала на крылечко.
— Цыц, Полкан, свои! — закричала она. — Иди сюда, Прасковьица! Иди, не бойся!
Прасковью Данилка знал. У Родьки Анофриева был брат Фрол, не вынес чумного сидения, а она, Фролова вдова, уцелела. Очевидно, ей хотелось снова выйти замуж за кого-то из конюхов, и потому она дружилась с мужниной родней, вместе с другими бабами и девками забегала порой на Аргамачьи и на Большие, что в Чертолье, конюшни. Сейчас же Прасковья добровольно взяла на себя все заботы о Татьяне и ее семействе, то есть всячески показывала, какая она добрая да хозяйственная, как своих в горестях не оставляет.
Встретила ее Ванина теща, баба еще молодая, норовистая и языкастая.
— Ну, что Татьяна?
Прасковья, споро поднимаясь по лесенке на высокое крыльцо и обивая снег с сапог, успела рассказать и по каким домам роздали детей, и где Татьяна, и когда отпевание, а самое главное приберегла напоследок.
— А знаешь ли, свет, что Родька все Устиньино добро на кружечный двор сволок?
— Да ты сядь, отдышись! Я кашу вон из печи достала!
Очевидно, не замечая, что в сенцах есть еще человек, Прасковья продолжала выкладывать новости.
— Я же к Устинье, царствие ей небесное, пошла за вещами, во что обряжать, и со мной еще Дарьица и Мавра. А у нее все короба раскрыты, видать, Родька-то копался! И шуба пропала, и зимние чеботы, и опашень! Я как увидала — чуть мимо лавки не села…
Теща, которой не хотелось босиком стоять в сенях, втянула гостью в горницу. Данилка мигом соскочил с доски и, кутаясь в шубу, прижал ухо к дверям, к самой щели.
— И говорю — ахти мне, Дарьица, а ведь я права оказалась! Не к добру та душегрея!
— Ты про новую? — обнаруживая знание Устиньина хозяйства, уточнила теща. — Да потише, дочка с зятем спят. Артемонушка-то ночью нас повеселил — уж не чаяли, что до рассвета угомонится.
Данилка про себя назвал потребовавшую тишины бабу стервой…
— Про новую, ту, что она сама себе сшила из лоскутьев! Говорила я ей — не шей из лоскутьев, Устиньюшка, не к добру! Нет, говорит, такой ткани поискать, такого богатого синего цвета, я лучше лоскуток к лоскутку подберу и будет душегрея как у боярыни.
— Такую ткань у купца брать, так разоришься, — заметила Ванина теща. — Я чай, по три, если не по четыре рубля за аршин. А купчиха-то ей обрезочков дала всяких, и больших тоже, чего же не сшить? Рукавов-то кроить не надобно, лишь зад да перед, и всего-то в аршин длиной. И галун золотной по десять алтын за аршин идет, а она из кусочков составила, стыков и не разглядеть. Пуговки же у нее были припасены.
— Рукодельная была, помилуй, Господи, ее душеньку, — согласилась Прасковья. — Да только как увидела я те лоскутья, так и сказала — как хочешь, Устиньица, а не нравятся они мне. Птицы на них по синему полю вытканы какие-то нехорошие.
— Персидская ткань с чем только не бывает, — согласилась теща. — Я бы тоже на себя с птицами не надела. А есть которая с человечками, и с тварями тоже есть.
— Вот эти пташки ее и унесли, — сделала вывод Прасковья. — И сами улетели! Ты, свет, приходи с Татьяной и с малыми посидеть.
— У нас тут свой имеется. Можно, конечно, ее младшенького к нам пока забрать, положим двоих в одну люльку, места хватит.
Бабы заговорили о детишках.
Данилка повторял приметы — бабья душегрея, птицы по синему полю, галуном золотным обложена, ткань персидская, дорогая, не всякой купчихе по карману. Вот только не сказали дуры-бабы, каким мехом душегрея подбита.
— Вставай, свет! Завтрак стынет, — сказала зятю Ванина теща. — Помолясь, да и за стол.
Ваня заспанным голосом что-то пробубнил в ответ, прошлепал к дверям.
— Держи, — он сунул Данилке в руку ломоть черного хлеба. — И шел бы ты на конюшню. Ну, съездят тебя Гришка или Никишка по шее — беда невелика. Съездят да и призадумаются — ведь все равно правда на свет вылезет, когда Родьку допрашивать начнут, так, может, и лучше, что ты его подьячему выдал и никому, его выгораживая, врать не пришлось. Не то всех бы к ответу притянули.