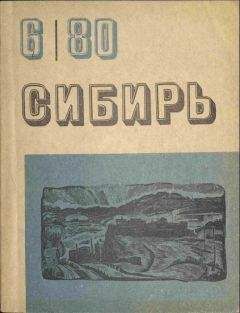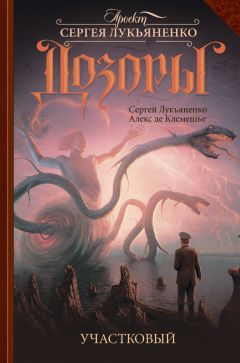– Истинный ты бандит, Генка… Через всю кабинету прошел, а ни одна половица не скрипнула.
Голодные, сновали по стенам милицейской комнаты черные тараканы; их было много, очень много, но в обычные дни участковый Анискин на тараканов внимания не обращал, а только извинялся за них перед посетителями и улыбался при этом. Сегодня же на тараканье царство участковый посмотрел зло, прищурился колюче, хотя по-прежнему всматривался в самого себя. Что-то в себе самом пытался разглядеть Анискин, но не мог и от этого страдальчески морщился.
– Ты бы рассказал, Генка, чего набедокурил? – вдруг вежливо спросил участковый. – Только ты уж не ври, касатик, а?
– Ой, мама родная, – обливаясь ласковой влагой, проникновенно прошептал Генка, – да когда я вам врал, дядя Анискин, да когда это было со мной, чтобы я вам врал…
– Всегда! – ласково ответил Анискин. – Всегда, родной!
– Ой, да неверно, да неверно! Я, может, когда по мелочам что и врал, а по-большому я завсегда правду говорил, так как скрытности во мне сроду не было, такой я от родной моей милой мамочки прирожденный, что на вранье не способный и во всем перед вами, дядя Анискин, открытый…
Генка Пальцев пел да пел, помаргивал да помаргивал библейскими ресницами, а участковый Анискин все дальше и дальше уходил от него. Вот уж совсем далеко-далеко дрожал заупокойный голосок Генки, застилались туманом его слова; частой, как бы комариной сеткой весь покрылся он – уже не с Генкиного лица стекали бледность и хворь, не его тело и голова жили отдельно друг от друга, а Генкин отец – Дмитрий Пальцев – сидел в темной милицейской комнате. Он сидел, смотрел на Анискина глазами русской богородицы и под участковым вдруг покачнулась табуретка, уплыл из-под ног пол… Пахнуло сырой прелью оврага, ударила в зрачки большая зеленая звезда; ударила, кольнула, и пошел звон по голове, как по пустой церкви перебор колоколов; заболел под левым соском звездчатый шрам, и в запахе пороха давил на ладонь сгусток крови, что текла в зеленый луч звезды…
– Тихо, тихо… – шепотом сказал Анискин и сделал рукой такое движение, точно хотел убрать с лица несуществующую паутину. – Тихо…
Они молчали минуту. Потом участковый спросил:
– Что ты сделал на хуторе, Генка?
– Бочата снял с парикмахерши, – ответил Генка. – Золотые…
– Ну!
– Она запищала, дядя Анискин, – еле слышно сказал Генка, – тогда я ее немного придушил…
– Насмерть?
– Ой, да наверное, как вы можете подумать такое, дядя Анискин, зверь я или человек, чего бы я стал ее насмерть из-за часов-то… Вы всегда что-нибудь придумаете, дядя Анискин, такое придумаете, что даже подумать страшно, не то что выговорить, прямо обидно мне на все это…
Генка пел все тише, паузы между словами делал все длиннее и понемногу вытягивал ноги, распластываясь на табуретке. Он все утишивал и утишивал голос, пока не перешел на шепот, так как участковый смотрел на Генку неподвижными задумчивыми глазами. Из них на Пальцева текло невидимое, но ощутимое, связывало Генку по рукам и ногам; в глубь Генки и через него смотрел Анискин, в печенки и селезенки.
– Ну ладно! – сказал участковый. – Теперь я все про тебя знаю, Генка… Все знаю, ровно и не получал из райотдела телеграмму, чтобы задержать особо опасного рецидивиста… Понял, не из телеграммы узнал, а от тебя самого…
Генка теперь сидел на табуретке так, словно лежал – сползли с колен перевитые мускулами руки, обвисли ноги-тумбы, заострился славянский нос. Потом Генка по-рыбьи хватил ртом воздух:
– Когда пришла телеграмма?
– Третьего дня… Не думал я, что ты такой дурак!
Брезгливо, страдальчески поморщившись, участковый прицыкнул зубом и поднялся с табуретки с таким видом, как поднимается человек, которому давно надо было сделать это, но он не решался. Встав, Анискин подошел к русской печке, снял с шестка коробку с надписью «Дуст» и, вынув из нее щепотку серого порошка, посыпал припечек.
– Парикмахерша жила еще два часа, – приглушенно сказал участковый. – Ты зачем, Генка, фонарик засветил, когда ее душил?… Дура ты, дура!… Да с такой мордой, как у тебя, по карманам шарить нельзя, не то что по мокрому делу… Вот женщина и опознала твою фотографию… Теперь тебя, Генка, расстреляют! Это беспременно надо произвесть! – Участковый тоскливо покачал головой. – Я тридцать два года работаю в деревне милиционером, а убийц еще не было… Драки бывали, воровство случалось, а убийц… Ты первый, Генка!
– Не задерживай меня, дядя Анискин, не отдавай райотделу, – жалобно и страстно попросила Генкина голова. – Не отдавай!
Деревенская слышалась тишина: ни звука не было, ни привязочки, на которой мог бы отдохнуть напряженный слух. И только шуршали, шуршали за припечкой тараканы.
– Я никого из своих деревенских зря райотделу не отдавал, – негромко сказал участковый. – Ты вспомни, Генка, кого из деревенских я зря райотделу отдал?
– Никого! – набухнув, прошептали жаркие Генкины губы. – Никого…
– Тебя я, Генка, возьму, – еще тише продолжал участковый. – Я беспременно тебя должен взять, но я тебе дам такое условие, через которое ты можешь спастись и стать человеком, если превозмогешь трусость… А если она, трусость, сильнее тебя, Генка, то тут тебе – гроб!… Так что решай – принимать тебе условие или нет…
– Какое условие?
– А вот какое!
Анискин прошелся по комнате, опершись руками в наличники, посмотрел на улицу. Увидел он светлую от солнца Обь, синие кедрачи за ней, а за кедрачами – пустоту; полтора километра было от берега до берега реки, но еще больший простор расстилался за нею, так как за Обью начинались Васюганские болота; начинались и шли на десятки, сотни километров, ровные и унылые. Над болотами тучей висело смрадное комарье, жалобно пищали длинноногие кулики, и солнце торчало на одном месте, словно его остановили.
– Слушай мое условие, Генка! – сказал Анискин. – Даю тебе срок до двенадцати ночи или, как говорят райотдельские штукари, до ноль ноль часов… Уходи ты до этого срока из деревни. Ты меня не видал, я тебя не видел… Уходи, Генка!
– Обласок дашь? – одними губами прошептал Генка. – Обласок…
– Ни лодку, ни обласок не дам! – жестко ответил участковый. – Ты сам знаешь, что я к ним приставил охрану… Пешком уходи, Генка!
Опять не сидел, а лежал на табурете Пальцев, но был уже повернут лицом к окну, где лежала Обь, кедрачи за ней, а за кедрачами…
– Это ведь все равно расстрел… – прошептал Генка.
– А ты как думал! – не сразу отозвался участковый. – Ты что думал, когда душил мать двух детей?… Но иди в болота, бог с тобой! Выйдешь живым – человеком сделаешься, погибнешь – тоже правильно будет. Сам ты теперь над собой хозяин, Генка… На этом наш разговор оконченный!
Онемев, Пальцев не шевелился – лежали перекисшим тестом на костяке мускулы, стекали на грудь звериной тоской глаза русской богородицы.
– Страшный ты, Генка, – прицыкнув зубом, сказал Анискин. – Кажный человек от страху бледнеет, а ты краснеешь, ровно хватил стакан водки…
Минут через пять Генка с табуретки встал, запинаясь ногами одна за одну, пошел к двери.
– Финач есть? – вдруг вежливо спросил Анискин. – А, Генка!
– Ну, чего же ты такое говоришь, дядя Анискин? – в дверь запел Генка. – Откуда у меня может быть финач, вот придумаете же такое, что и подумать невозможно, что даже обидно…
Он пел и пел, но участковый не слушал – он глазами приник к телу Пальцева и удовлетворенно качнул головой, так как по спине Генки, от плеч к бедрам, а от бедер – к левому карману галифе прокатилась быстрая волна.
– Сволочь! – восхищенно сказал Анискин. – У тебя ведь в левом кармане пистолет, Генка… Ну, совсем сделался серьезный рецидивист!
Taken: , 1
Старый осокорь на берегу шелестел по-дневному, Обь в синеве густела, под яром не купались ребятишки, так как шел шестой час и уже слышалось, как на ближних покосах погуживали машины и покрикивали бабьи голоса: так бывает к вечеру, когда воздух делается прозрачным и легким. Он доносит до слуха каждый звук, и если в деревне тихо, то можно слышать пароход, который шипит за дальней излучиной Оби, крик бакланов за отмелью, до которой шесть километров, и стон кукушки в березах.
Тихо было в деревне, и участковый Анискин неподвижно стоял посередине дороги, сложив руки на пузе и медленно покручивая большими пальцами, думал: «Вот ведь до чего выдался тяжелый день, что и не знаешь, куда ногой ступить…» Он еще минуточку постоял на пыльной дороге, потом, сам себе согласно кивнув головой, пошел к тому дому, что был сложен из сосновых брусьев и в котором жил учитель восьмилетней школы Филатов. Анискин приблизился к дому, но во двор заходить не стал, а подшагал под открытое окошко. Участковый прислушался и думающе наморщился, так как не мог понять, что за звук раздается в комнате, затем вдруг широко улыбнулся.
– Владимир, – позвал Анискин. – Ты бы выглянул на час… Мне с тобой побеседовать охота.